|
Капитализм как религия
«Капитализм как религия» — неоконченная работа Вальтера Беньямина (1892—1940), написанная в 1921 году. Опубликована в 1985 году. Относится к ранним наброскам Беньямина по вопросам социальной и политической теории, религии, теории истории. Во фрагменте[К 1] Беньямин утверждает, что капитализм следует считать религией. Данный тезис опровергает известную идею Макса Вебера о протестантской трудовой этике как условии возникновения капитализма. Беньямин не даёт точных определений, однако выделяет основные черты капиталистической религии: её радикальность как чистого культа без догматики, перманентная длительность и нацеленность на наделение виной, а не на искупление. Полемизируя с Вебером, Беньямин характеризует отношение капитализма к христианству как «паразитическое». Автор использует аллегории и метафоры, центральное место во фрагменте занимает образное понятие Schuld, в разных контекстах интерпретируемое как вина или долг. Капиталистический культ инициирует необратимое движение возрастания вины, обвиняет даже «самого Бога», что приводит к безысходности и отчаянию и в конечном счёте к разрушению мира. Беньямин критикует Фридриха Ницше, Карла Маркса и Зигмунда Фрейда за то, что их теории воспроизводят логику движения капитализма. Из текста неясно, предполагает ли автор возможность преодоления капитализма и выхода из тотальной системы вины. «Капитализм как религия» впервые в творчестве Беньямина даёт теологическую интерпретацию капиталистического модерна, намечая будущие исследования его мифологического измерения в «Пассажах» и других поздних работах[1][2]. Фрагмент привлёк внимание специалистов в начале XXI века в связи с повышением интереса к наследию Беньямина в общем историческом и политическом контексте постсекулярного времени. Идеи фрагмента о капитализме как религиозной формации развивает известный итальянский философ Джорджо Агамбен. Краткое содержаниеТекст Беньямина начинается с утверждения, что капитализм следует считать религией[3], её цель — освобождение от «забот, мучений, беспокойств» (нем. Sorgen, Qualen, Unruhen), что заменяет ответы, которые ранее давали «так называемые религии» [4]. Беньямин отказывается от доказательства своего тезиса, упоминая представление Макса Вебера о капитализме как о формации, обусловленной религией. Доказательство увело бы на «окольные пути всеобъемлющей полемики»; кроме того, мы пока не можем «затянуть сеть, внутри которой находимся сами». Беньямин добавляет, что настанет время, когда вопрос этот можно будет рассмотреть[5][6]. Автор выделяет три черты капитализма как религии. Во-первых, капитализм является «чистой религией культа», вероятно, наиболее радикальной из когда-либо существовавших. Любой элемент данного культа имеет смысл только в непосредственной связи с культом; утилитаризм получает религиозный оттенок[7]. Культ не имеет собственной догматики или теологии. Во-вторых, капиталистический культ никогда не прерывается, продолжается перманентно, «sans rêve et sans merci», в капитализме исчезают как будни, так и праздники, что приводит к «крайнему напряжению радений»[8]. В-третьих, культ наделяет виной, поэтому, вероятно, это первый культ, нацеленный не на искупление, а на обвинение[9]. В этот момент, замечает Беньямин, начинается «обвальное и чудовищное» движение, в котором оказывается религиозная система капитализма — «безмерное сознание вины» стремится к культу не для её искупления, а для универсализации вины[10]. Даже сам Бог оказывается виновным, искупления нет ни в самом культе, ни в его реформировании или в отказе от него. В стремлении дойти до конца, до обвинения Бога религиозное движение капитализма достигает «последнего мирового состояния отчаяния», которое воспринимается как надежда и от которого «ожидается исцеление». Историческая беспрецедентность капитализма заключается в том, что религия больше не преобразовывает бытие, а превращает его в руины. Бог потерял трансцендентность, но не умер, а «ввергнут в человеческий удел»[11][12]. Переход человеческой планеты по орбите абсолютного одиночества в дом отчаяния является этосом в смысле Ницше, сверхчеловеком, который сознательно служит религии капитализма. Беньямин добавляет четвертую черту капитализма: незрелый Бог капиталистической религии должен оставаться скрытым, только «в зените его виновности позволено обращаться к Нему»[7]. Теории Фрейда, Ницше и Маркса, пишет Беньямин, относятся к господству жрецов культа, выражая капиталистическое религиозное мышление. В теории Фрейда «вытесненное и греховное представление» является капиталом, производящим выплату процентов «преисподней бессознательного»[13]. Философия Ницше превосходно выражает капитализм: сверхчеловек, разрушающий и пронзающий небеса в апокалиптическом «прыжке», воплощает не искупление, обращение, покаяние или очищение, а «предельное напряжение, взрывное, дискретное усиление»; Ницше сохраняет в этом усилении «мощи человеческого» религиозное вменение вины. Схожим образом Маркс пишет о социализме, который, не меняя направление движения, сменяет капитализм, получая от него проценты и проценты процентов от вины. В скобках Беньямин отмечает «демоническую двусмысленность» понятия Schuld (долг и вина)[10][14]. Западный капитализм являлся паразитом христианства (а не только кальвинизма), поэтому в конечном счете история христианства суть история капитализма; христианство не было условием возникновения капитализма, а превратилось в него во времена Реформации[15]. Беньямин конспективно сравнивает иконографию святых и денежные купюры[16] и после списка библиографии пишет о «заботах» как болезнях духа капитализма. «Заботы» возникли от ужаса «духовной безысходности» и приняли социальный масштаб, они являются «указаниями» на социальные формы осознания вины[17]. Автор ставит методологическую задачу изучить эволюцию отношения денег и мифа в истории, до учреждения деньгами своего мифа. В конце текста утверждается, что древнее язычество воспринимало религию как нечто практическое и непосредственное, а не моральное или высокое; в непонимании своей идеальной или трансцендентальной природы язычество сходно с капитализмом[4][18]. СозданиеХарактеристика рукописиО причинах и целях написания фрагмента почти ничего не известно. Короткий фрагмент из записной книжки является рабочей записью, наброском, а не оконченной работой. Текст состоит из трех рукописных листов небольшого формата, включает библиографию, замечания и комментарии. Автор ряда работ о Беньямине германист Уве Штайнер полагает, что текст состоял из трех частей. Первая часть занимает два листа, не имеет заголовка, снабжена ссылками; за ней на лицевой стороне третьего листа следует конспективная вставка с титулом «Деньги и погода» (вторая часть, по мнению Штайнера), затем — отдельные заметки и рабочие указания, снабженные ключевыми словами, библиография и снова разрозненные замечания и пояснения. Первая часть написана связным текстом, последняя часть состоит из коротких тезисов, набросков будущего исследования. Название «Капитализм как религия» вписано над последней частью на обратной стороне третьего листа. Cвязь с начальными рассуждениями создается размышлениями о заботе, в конце Беньямин возвращается к исходному пункту о практической функции религии в язычестве[19][20][21][22]. Фрагмент удалось датировать благодаря наличию библиографического списка, включающего книгу Эриха Унгера (вышла в январе 1921 года), работы Вебера, Эрнста Трёльча, Жоржа Сореля, Густава Ландауэра и Адама Мюллера. Издатели Рольф Тидеманн[нем.] и Герман Швеппенхойзер[нем.] на основе анализа ссылок (в частности, факта цитирования книги Мюллера во второй части) заключили, что фрагмент был написан не ранее середины 1921 года[21][20]; комментаторы Михаэль Леви и Иоахим фон Соостен считали более вероятным конец 1921 года[3][23]. Записи существенно отличаются от опубликованного варианта, в который издатели не включили вставку о погоде и деньгах, поместив её в примечания к «Улице с одностороннем движением» (том IV / 2). Эти заметки были связаны с планировавшейся Беньямином критикой фантастического романа Пауля Шеербарта «Lesabindio» (1913), о котором Беньямин писал в последние годы Первой мировой войны, а затем собирался вновь рассмотреть в широком контексте. Этот текст не сохранился. Заметки получили развитие в афоризме «Налоговая консультация» из «Улицы с односторонним движением» (1928)[24][25].  Фрагмент относится к ранним размышлениям Беньямина о мифе, искусстве и религии[1], к домарксистскому периоду. Фрагмент вполне типичен для Беньямина и играет ключевую роль в развитии его интересов. Содержит одно из немногих высказываний Беньямина о Ницше и Фрейде[21]. Как и в большинстве работ Беньямина, в тексте нет четкого разбиения на абзацы, нет четкой логики аргументации [26]. Наряду с текстами того периода «К критике насилия» (1919) и «Теолого-политический фрагмент» (1921), «Капитализм как религия» представляет первый набросок теории истории и политической теории, показывает генезис мысли Беньямина[27][28]. Штайнер полагает, что Беньямин планировал включить фрагмент, а также вторую критику романа Шеербарта и «К критике насилия», в масштабную работу о политике, которая должна была состоять из двух частей — «Подлинная политика» и «Подлинный политик»[29]. Проблема названияНазвание фрагмента написано на обратной стороне последнего листа над заключительной частью после вставки заметок о деньгах и погоде[20][21]. По предположению германиста Даниэля Вайднера[нем.], заголовок был добавлен позднее, после написания страницы — на «титульной» странице оставалось достаточно места для заголовка[30]. Некоторые комментаторы, в частности, известный исследователь творчества Беньямина бразильско-французский социолог Михаэль Леви, считают, что название взято из книги марксистского философа Эрнста Блоха «Томас Мюнцер, теолог революции» (1921). В этом случае, полагает немецкий философ и литературный критик Вернер Хамахер, фрагмент мог быть написан не ранее конца 1921 года[31]. Между Блохом и Беньямином имело место тесное интеллектуальное общение, они познакомились в Швейцарии, где провели большую часть Первой мировой войны; Беньямин считал книгу о Мюнцере окончанием работы Блоха «Дух утопии» (1918), на которую написал рецензию (утеряна). В подтверждение того, что Беньямин читал книгу Блоха[32], Леви приводит цитату из письма Беньямина его другу Гершому Шолему от 27 ноября 1921 года[3]:
Другие считают вполне вероятным[33][32][31], что Блох заимствовал формулировку у Беньямина и затем использовал её в своей книге. По мнению Вайднера, грамматически название ни является утверждением («Капитализм есть религия»), ни связывает две темы («Капитализм и религия»). Вайднер заключает, что название «Капитализм как религия» является перформативным — текст не раскрывает смысл названия, а начинается с указания: «Капитализм следует рассматривать как религию» (в английском переводе этот аспект смягчен — «можно»)[34]. АнализХристианство и капитализм: Беньямин и ВеберТекст явно вдохновлен книгой Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» (1904)[3]. Беньямин ссылается на Вебера в начале фрагмента, упоминая его мнение о капитализме как «религиозно обусловленной формации», а затем вновь возвращается к Веберу, к констатации, что реформаторское христианство не способствовало возникновению капитализма, а превратилось в капитализм[35]. В общей сложности Беньямин дважды цитирует Вебера — в тексте и в библиографии, где упоминается его «Сборник очерков о социологии религии» (1920), наряду с работой немецкого философа культуры Эрнста Трёльча «Социальное учение христианских церквей и групп» (1912)[3][К 2]. По мысли Вебера, протестантское аскетическое отношение к труду являлось условием возможности возникновения и развития западного капитализма. Вебер отмечал, что пуритане беспокоились об индивидуальности спасения, его нельзя было получить ни через общественные добрые дела, ни с помощью личной веры. Беспокойство облегчается при условии честного заработка и добросовестной бережливости в управлении земным благосостоянием, что приближает, но не гарантирует божью милость. Постепенно этика заслуженного материального благополучия становится мирской целью, а спасение отступает за горизонт. В конечном счете, по Веберу, эти практические и символические изменения порождают секулярный мир модерна, свободный и полностью имманентный[38]. Веберовский тезис был направлен против основополагающей марксистской формулы, согласно которой социальное бытие определяет формы сознания[39]. Позиция Вебера привела к одной из самых известных и продолжительных дискуссий в социальных науках[40]. Аргумент Беньямина, как правило, рассматривается как критическая инверсия или опровержение тезиса Вебера, высказывается и точка зрения, что возможность изменения в аргументации была заложена самим Вебером[41][42][43]. Беньямин принимает представления Вебера о капитализме как динамической всепроникающей системе, которую невозможно остановить и от которой нельзя спастись. Если у Вебера капиталистическая машинерия будет работать, пока не «прогорит последний центнер горючего», то для Беньямина капитализм представляет теологическую конструкцию[44][9]. Беньямин следует рамке, заданной Вебером, пишет Штайнер, однако[41][45]
Зачастую утверждается, что Беньямин «преодолел» или «превзошёл» Вебера[46]. Например, Хамахер отмечает, что для Вебера генезис предпринимательской ментальности был обусловлен содержанием некоторых религиозных представлений и потому представлял каузальное отношение. Генезис капитализма следует, хотя Вебер этого не говорит, логике рациональности самого капитализма, следовательно, методология Вебера является структурно капиталистической. Беньямин, напротив, определяет капитализм и протестантскую религиозность в одинаковых терминах, оба феномена обеспечивают ответ на «заботы, мучения, беспокойства»[47]. По характеристике Леви, аргумент Беньямина заменяет «аксиологически нейтральный» тезис Вебера «антикапиталистическим обвинительным заключением»[3]. В то же время отмечается, что критика Вебера является стандартной процедурой в истории идей. Однако позиция Вебера, указывает Вайднер, была более сложной: он рассматривал отношения между протестантизмом и капитализмом не только как исторические, но и как структурные. Поэтому тезис Вебера является матрицей для любых обсуждений секуляризации, и преодолеть его не так просто[46]. Вайднер предполагает, что Беньямин не намеревался преодолевать Вебера, поскольку любая критика остается в рамках веберовской парадигмы секуляризации. Анализируя семиотику текста, Вайднер заключает, что Беньямин скорее использует Вебера, тезис о протестантской этике рассматривается Беньямином как культурное клише, к которому мы обращаемся для получения первоначального миметического знания о мире из текстов (в данном случае, из тезиса Вебера). Фрагмент является паразитом, живущим за счет дискурса социолога; в утверждении Беньямина паразитическая связь оказывается между тождеством и различием капитализма и христианства, между структурным и историческим подходами[48]. С этой точки зрения имеет значение не истинность или ложность необычного и логически замкнутого утверждения о капитализме как религии или доказательство непрочной связи между ними, а аллегорическое движение между двумя взаимосвязанными полюсами мышления[49][50][51]. Беньямин уклоняется от «всеобъемлющей полемики» на «окольных путях», не доказывая свой тезис и используя «любопытный аргумент»[52] — метафору сети, в которой «мы находимся». По мнению американского философа и литературоведа Сэмюэля Вебера[нем.], необычное словосочетание «всеобъемлющая полемика» (нем. Universalpolemik) отражает более известное выражение «всеобщая история» (нем. Universalgeschichte) и обозначает не кульминацию истории, а скорее перспективу бесконечной войны мира с самим собой, в смысле войны всех против всех Томаса Гоббса в глобальном масштабе[6]. «Всеобъемлющая полемика»[К 3], по всей вероятности, приведет к воспроизводству капиталистической системы[53]. С. Вебер привлек внимание к тому факту, что Беньямин использует глагол stehen (с нем. — «стоять или находиться»), а не «быть пойманным» — мы не пойманы в сеть, но находимся в ней[54][5][53]. Позиция любого критика, пишет немецкий философ Юдит Морман, неминуемо оказывается внутри капитализма как имманентной структуры, исключающей возможность внешней перспективы[53]. С точки зрения Морман, Беньямин решает методологическую проблему критической дистанции (признавая, что невозможно выйти за пределы сети) с помощью фрагментарной формы текста, противостоящей имманентной и холистической природе капитализма[53].  Загадочное описание капитализма как религии, указывает немецкий социолог Кристоф Дойчман[нем.], на первый взгляд является проблематичным: его нельзя проверить через стандартное родовидовое определение. Для этого следовало бы сначала найти общее понятие религии, а затем уточнить, можно ли под него подвести феномен капитализма наряду с традиционными религиями. В социальных науках до сих пор нет общего определения религии, от попытки её определить отказался даже Вебер, лишь описавший религиозные практики. Дойчман ссылается на тезис известного социолога Никласа Лумана: религию невозможно зафиксировать в родовидовых категориях, поскольку она уже есть род всех родов и всегда остается загадкой или шифром; Бог находится вне области смысла и символики, не означает ничего конкретного, он и спрятан, и открыт для наблюдения одновременно. Поэтому, заключает Дойчман, критерий сравнения капитализма и религии нельзя найти на уровне абстрактной, надысторической концепции религии, совпадение возможно только в негативном смысле — как совпадение парадоксов, с которыми сталкиваются при попытках определения обоих феноменов[55]. Согласно одной из точек зрения, Беньямин использует понятие капитализма довольно расплывчато (что напоминает подход к определению буржуазного субъекта в «Диалектике просвещения»[нем.] Теодора Адорно и Макса Хоркхаймера) и, в отличие от Вебера и Маркса, считает его скорее аисторической категорией[11][56], не сводя капитализм к экономической системе модерна. Американский германист Уильям Раш отмечает, что, согласно тексту, капитализм вовлечен в более широкое в исторической перспективе «обвальное и чудовищное движение» вины[56]. Из тезиса Беньямина о паразитических отношениях между капитализмом и христианством следует, что вся западная история должна восприниматься как развитие этой связи. По выражению теолога И. фон Соостена, христианство оказывается в состоянии родства с капитализмом, становится его первородным грехом, а капитализм выступает как первородный грех христианства[57]. Как пишет немецкий философ и теоретик медиа Норберт Больц[нем.], связь основывается на предпосылке, что теология является главной наукой об устройстве социальной реальности, а социальные феномены рассматриваются как религиозные архетипы, в сущности религиозные явления[58][59]. В то же время, по мнению Штайнера, описание капитализма как религии поднимает для Беньямина вовсе не религиозные, а скорее политические вопросы. Он отказывается от обращения к религии или религиозным убеждениям как последним инстанциям, поскольку попытка прояснить отношения капитализма и религии привела бы к подтверждению сходства или общности двух явлений. Беньямин, напротив, стремится дистанцироваться от полемики и оставить вопрос открытым[60][36]. Критика капитализма рассматривается и как специфический метод, разработанный Беньямином на основе пересмотра идей йенских романтиков[К 4] и направленный против инструментализации субъекта опыта объективными структурами (романтики выступали против инструментализации объекта, его коммодификации)[61][53]. Религия и капитализм рассматриваются, следовательно, с точки зрения их воздействия на социальные формы опыта, скорее в контексте социальной психологии, а не в социологических терминах[62]. Беньяминовская атака на тезис Вебера о протестантизме трактуется и как критика ложных форм аскетизма[63] (например, за скрытый консьюмеризм[28]), но автора фрагмента, в отличие от Маркса, Дьердя Лукача или Адорно, не слишком интересуют социальные и экономические последствия капитализма (отчуждение и овеществление) для рабочего класса или этическая критика консьюмеризма в современном смысле[53]. Капитализм можно понимать как универсальное условие, имманентную структуру, форму жизни, которая исключает существование автономных областей, не затронутых логикой капитализма[53]. Капитализм становится мишенью для критики, поскольку устанавливает фундаментальную антикритическую асимметрию между субъектом опыта и объектом производства (марксов товарный фетишизм — социальное отношение, маскирующее себя как отношение между вещами), что Беньямин трактует как упадок или утрату опыта, что характерно для общества модерна. В этой перспективе капитализм понимается как воспроизводящая себя структура, которая уничтожает миметическое знание и порождает некритические и нерефлексивные формы мышления и действия[64][65]. В конце фрагмента капиталистический культ сравнивается с язычеством, что, по мнению Леви, несколько противоречит первому тезису о христианстве[52]. Поэтому ряд комментаторов полагают, что капитализм означает возвращение язычества или неоязычество и, следовательно, противостоит моральной или даже религиозной позиции[66][4][67][68]. Религия сохраняет определённое и определяющее значение и функцию, пока сохраняются человеческие cтрадания и заботы и, следовательно, существует потребность в системе ответов[69][67]. Немецкий философ и экономист Биргер Приддат[нем.] отмечает, что Беньямин считает капитализм ошибкой, неудавшейся религией, критикуя в первую очередь невыполнение заявленных с самого начала обещаний, обман ожиданий (общественное благосостояние у Адама Смита)[70]. Капитализм затягивает в мир мифа — мир без личности, свободы и ответственности, искупления и покаяния; превратившись из паразита христианства в его хозяина, капитализм заменил избавительный потенциал христианства мифом. В статье «Судьба и характер» (1919) Беньямин под влиянием своего учителя, главы Марбургской школы неокантианства Германа Когена, противопоставлял религию судьбе. Капитализм, следовательно, понимается как миф, а не как религия, хотя и надевает одежды религии, которая противостоит мифу, так же, как вера и искупление — судьбе[66][71]. Поэтому критику Беньямина можно считать не столько секулярной, сколько нацеленной на капитализм как неоязыческую структуру, радикальную мистификацию, упраздняющую любую религию и любые формы религиозного опыта. Эта группа интерпретаций подвергается критике за сведение позиций Беньямина к религиозному дискурсу — борьбе между подлинной и ложной религией[72][73]. Другие исследователи полагают, что и христианство, и капитализм оцениваются Беньямином как языческие, «так называемые» религии. По мнению Хамахера, Беньямин, как и Коген, понимал под язычеством не столько античный политеизм, сколько доктрину первородного греха, распространённую на области веры, мышления и поведения[27][53]. С этой точки зрения, единственной искупительной религией (вероятно, под влиянием Когена) Беньямин считал монотеистический иудаизм[53][47][9]. Штайнер, напротив, утверждал, что Беньямин жестко разграничивал религиозные формы сознания (включая капитализм) и политическое сознание, сфокусированное на профанной идее счастья. По мнению американского философа Натана Росса, интерпретация Штайнера не учитывает тот факт, что капитализм понимается Беньямином как крайне сомнительная религия[60][36][74]. С точки зрения Раша, капитализм во фрагменте представляет религию в чистом виде (нем. Urform), Беньямин описывает удлинённую диалектику секуляризации, которая привела к коллапсу в первобытную имманентность (язычество) под властью новых капиталистических богов, причем в этой имманентности возвращается трансцендентность[50][75]. Взвешенную оценку представляет Больц: позиция Беньямина находится на равном удалении как от секуляризации, так и от политической теократии, поскольку религия не влияет на содержание политики и права. Как отмечает Больц, для Вебера любое социальное положение тоже соотносится с перспективой вечности, однако духовная составляющая (призвание) исчезает из профессии; Беньямин же остается теологом в той степени, в какой сохраняет перспективу покаяния и катарсиса[76]. Формулировка Беньямина имеет связь с тезисом Блоха, который в книге о Томасе Мюнцере также рассматривал капитализм как религию. В заключении главы о Жане Кальвине Блох разоблачает доктрину женевского реформатора, которая, по словам Блоха, «полностью разрушает» христианство и вводит «элементы новой „религии“ капитализма, возведенного в ранг религии и ставшего церковью Сатаны»[77]. Согласно Блоху, современная капиталистическая экономика по вине Кальвина полностью освободилась от всех сомнений христианства. Кальвин ослабил противоречие между повседневной и будущей жизнью, тем самым «высвободив повседневность». Реформа Кальвина являлась не просто неправильным обращением с христианством, а отступничеством, даже новой религией[33][78]. По мнению Леви, Беньямин не разделял позицию Блоха о протестантском предательстве подлинного духа христианства[3]. Позиции Беньямина, отмечает Хамахер, были более радикальными: для него формула «капитализм как религия» определяла сущность не только капитализма, но и христианства[79]. Текст иногда относят к антикапиталистической традиции интерпретации Вебера. Если отношение Вебера к капитализму было амбивалентным, частью «аксиологически нейтральным», частью пессимистическим и смиренным, то «наследники» Вебера — Блох, Лукач, Эрих Фромм — «исказили» его идеи для яростной критики капитализма под влиянием социалистических или романтических воззрений[80][81]. Беньямин вернулся к тезису Вебера много лет спустя, в XI тезисе «О понятии истории» (1940), в котором подверг критике веру в прогресс у социал-демократов, основанную на протестантской трудовой этике, хотя имя Вебера не упоминалось[62][82]. Отсутствие догматики и перманентная длительностьВ описании черт капитализма как религии Беньямин радикализирует идеи Вебера, хотя и не ссылается на социолога, и придает им новое, намного более критическое содержание — социальное, политическое, философское, — противостоящее веберовскому тезису о секуляризации[52]. Три черты представляют капитализм как радикальное явление, даже как исключение. Капиталистический культ является крайне специфической и необычной религией[26][70]. Культ упраздняет любую догматику или теологию, любой смысл всегда находится в «непосредственном отношении» к культу. Связь между капитализмом и культом поэтому уникальна, её нельзя понимать количественным образом[83]. «Непосредственность» (нем. unmittelbar) отличает культ от иных религий, создавая его определённую автономию. Беньямин пишет в этом контексте об утилитаризме, который приобретает религиозное содержание; согласно С. Веберу, данный процесс имплицитно предполагает количественную оценку и даже некоторое обожествление числа и количества (формула утилитаризма — «наибольшее счастье для наибольшего числа людей»)[7]. Культ обеспечивает непосредственность смыслов и ценностей в повседневной жизни, в его всеобщности и интенсивности синхронизированы средства и цели, действие и смысл, деньги и Бог, означающее и означаемое[15]. Место догматики занимают действия, которые принимают форму культовых практик, ритуалов, не позволяющих выйти пределы установленной сети ценностей и смыслов[15][84][52]. Как пишет Леви, с религиозным культом отождествляются утилитарные практики капитализма, включая инвестиции, спекуляции, финансовые операции, биржевую игру, покупку и продажу товара[52]. По мнению Больца, капиталистический культ есть культ товара, ежедневный «праздник товарного фетишизма», в котором меновая стоимость претерпевает изменения и становится объектом религиозного экстаза; Больц считает, что этот подход лежит в основе понятия «фантасмагория», ключевого для дальнейших работ Беньямина[85]. Отсутствие догматики в капиталистическом культе можно понимать как язычество или как теологический пантеизм[86][87]. Согласно немецкому теологу Вольфгангу Палаверу[нем.], формулировка Беньямина («без догматики») близка подходу немецкого экономиста Александра Рюстова, который, рассматривая пантеистические черты либерального капитализма, отождествлял единство Бога и природы (Deus sive natura) у Спинозы с невидимой рукой Адама Смита — саморегулирующимся силам рынка, благодаря которым частный эгоизм преобразуется в общее благо[86]. Сходство с «изначальным» язычеством, упоминаемое Беньямином в конце фрагмента, акцентирует практическое, утилитарное отношение к религии, не достигшее состояния рефлексии или самонаблюдения. Поэтому культ у Беньямина, отмечает Раш, не является сектой в смысле Вебера — сообществом, разделяющим моральные или трансцендентальные идеалы. Неверующему запрещено вступать в секту, но он не может избежать культа[88]. Адепты культа, пишет Раш, могут быть верующими или неверующими, бедняками или безработными, сторонниками альтернативных точек зрения (как и сам Беньямин) или академическими марксистами, но все они имеют зарплаты, пенсии, автокредиты, ипотеки и т. д., то есть включены в капиталистический культ, из которого нет выхода вне зависимости от веры в его власть[88]. Культ функционирует не репрессивным образом, пишет Морман, и не потому, что он эффективен. В этом аспекте Беньямин расходится с традиционными марксистскими подходами, скорее сближаясь с современной социологической концепцией Люка Болтански и Эв Кьяпелло[фр.]. Авторы «Нового духа капитализма» (1999) дистанцировались от веберовской трудовой этики и отказались от объяснения капитализма в терминах подавления. Их подход выводил на первый план материальное и нематериальное вознаграждение, мотивационные стимулы и механизмы расширения участия[53]. Однако, в отличие от Болтански и Кьяпелло, капиталистический культ Беньямина, по мнению Морман, связан с объективным механизмом, а не субъективной мотивацией. Капитализм не обладает мотивационными силами, поскольку не нуждается в них: участие не есть вопрос выбора, оно обязательно[53]. Культ упорядочивает все аспекты жизни, затрагивая пространство и время. Несмотря на отсутствие догматики, культ является единственным источником смысла, что позволяет ему быть мерой самого себя и, следовательно, противостоять преобразующему воздействию времени. Если традиционные культы ограничены определёнными местом и временем, то капиталистический культ никогда не останавливается, не прерывается, не дает передышки. Культ обязателен для каждого индивида в любое время, требуя «крайнего напряжения радений». В результате упраздняется различие между будними и праздничными днями и учреждается гнетущая бесконечность праздника, из которой нет выхода — все дни посвящаются новому культу[89][84][90]. Перманентность ритуалов стирает границы между профанным временем и временем отправления культа, между профанным и сакральным[91][92]. По замечанию Хамахера, любая связь между сакральным и профанным сжимается в одну точку непосредственного соприсутствия, в результате образ настоящего становится недифференцированным[93]. В трактовке Соостена капиталистический культ является спектаклем, зрелищем, но не в марксистском смысле «театра подозрения», а скорее как подлинная драма, которая разыгрывается в эпоху Беньямина, причем культ не может исчезнуть, пока драма полностью не сыграна[94]. «Перманентная длительность культа» напрямую следует из веберовского описания эволюции кальвинистской морали. Беньямин, по всей видимости, иронично переворачивает описанное Вебером пуританское отрицательное отношение к религиозным праздникам[84][95]. Вебер признавал, что Реформация была направлена не на упразднение контроля над публичными и частными сферами, а на его усиление в форме внутренней, психологической самодисциплины (смелость и усердие). Стойкость пуритан Вебер считал подлинным героизмом, породившим ранний капитализм[96]. Пуритане мечтали быть профессионалами, писал Вебер; к началу XX века, отмечает Раш, героизм превратился в обязательную рутину, а добровольное самопреодоление стало принудительным самообезволиванием. В беньяминовском культе эта тенденция логически завершается, его адепты — роботоподобные «профессионалы»[18]. Тезис Беньямина имеет явное сходство и с утверждениями Блоха в книге о Мюнцере. Для Блоха Бог в кальвинизме превратился в бухгалтерию, а чувство божественного редуцировалось до «парадоксального расслабления в мертвое воскресенье»[33][78][97].  Для описания перманентной длительности культа Беньямин использует французское словосочетание «sans rêve et sans merci» (букв. «без сна и cнисхождения»). Дословный перевод был опубликован в немецких и английских изданиях, однако в настоящее время большинство комментаторов полагают[98], что в тексте имеется опечатка и Беньямин имел в виду слово trêve (с фр. — «перемирие, передышка»). Фраза, таким образом, читается как «без передышки и снисхождения». С. Вебер предположил, что Беньямин использовал выражение из стихотворения Шарля Бодлера «Вечерние сумерки» из сборника «Цветы зла»[К 5], переводом которого он занимался в 1921 году[98][101][99]. Отсутствие передышки и прощения включает даже ночь в капиталистический рабочий день. В «Пассажах» (1930-е годы) Беньямин писал, что в Париже нет подлинных сумерек, так как электрическое освещение включается во время заката — даже естественная смена дня и ночи отменяется прогрессом техники (С. Вебер) [99]. В то же время итальянский философ, теоретик культуры и переводчик Беньямина Карло Сальцани отметил, что увлечение Беньямина тематикой сна, его имманентной и глубокой связью с капитализмом возникло не ранее 1930-х годов. По другой гипотезе, выражение отсылает к десяти заповедям средневекового рыцарства, изложенным известным историком литературы XIX века Леоном Готье. Шестая заповедь предписывала сражаться с неверными «без отдыха и пощады»[92][98]. Тезис о перманентности культа, по мнению С. Вебера, создает дилемму: бесконечная длительность культа противоречит тому, что он должен быть локализован, отправляться в конкретном месте и в конкретное время. Решение проблемы С. Вебер находит в обсуждении моды в «Пассажах», частью основанном на теории аллегории, разработанной в «Происхождении немецкой барочной драмы»[102]. В этой монографии Беньямин отмечал спациализацию времени уже в XVII веке, превращение времени из повествовательного медиума христианской сотериологии в медиум театральный. Изменение восприятия времени и истории поместило в центр аллегории смерть, что, в свою очередь, способствовало появлению в XIX веке товарного производства, потребления и моды, которые пытались управлять смертью и временем[103]. Совмещая одинаковое и различное, ускорение и прерывание, скорость и силу, мода является арматурой, с помощью которой, полагает С. Вебер, капиталистический культ подчиняет пространство и время, превращая людей и вещи в элементы капиталистической сети[104]. Schuld: «долг-как-вина»В центре фрагмента и рассуждений Беньямина находится образное понятие Schuld[К 6], характеризующее третье свойство капитализма — «демоническую двусмысленность» — эквивалентность долга и вины; экономический долг всегда указывает на правовую, моральную или эмоциональную вину [108][109][110][81]. Как полагает Больц, тезис об универсализации вины в капитализме спорит с двумя концепциями — веберовским религиозно-социологическим обоснованием универсальности западной рациональности и фрейдовским психолого-религиозным основанием чувства вины[63]. По мнению Штайнера, понятие вины имеет ту же функцию, что и рациональность у Вебера[50], проясняет структурное сходство между экономической и религиозной деятельностью через призму практической и магической рациональности, которая предшествует характерному для эпохи модерна отождествлению религии и иррациональности[111]. В западной теологии проблема виновности, с одной стороны, отсылает к первородному греху; с другой стороны, Schuld предполагает, в отличие от греха, возможность прощения как вины, так и долгов[112]. Амбивалентный подход к экономике и морали, указывает Вайднер, не является изобретением Беньямина, а довольно типичен для немецких исследований культуры[нем.] начала XX века. В этом смысле Schuld является оборотной стороной Wert (ценность) — ключевого понятия для таких мыслителей, как Генрих Риккерт, Георг Зиммель, Макс Вебер и др. Эти авторы полагали, что понятие культурных ценностей сформирует новую область исследований за рамками естественных и гуманитарных наук. В их понимании понятие ценности сближалось с культурными или даже вечными ценностями, скорее религиозными, чем экономическими, хотя последний оттенок подразумевался[113]. Леви находит схожие с беньяминовскими рассуждения у Вебера в его описании задолженности пуритан перед Богом, тяжкого и неумолимо возрастающего бремени ответственности за доверенное им имущество[114]. Комментаторы отмечают и влияние на Беньямина Германа Когена, который в «Этике чистой воли» (1904) рассматривал вину и судьбу как элементы мифа, из которого возникают поэзия и религия[115][116].  Главным источником «демонической двусмысленности» Schuld для Беньямина является Ницше[117]. В «К генеалогии морали»[нем.] Ницше заметил, что «основное моральное понятие „вина“ (Schuld) произошло от материального понятия „долги“ (Schulden)»[113][10]. Беньямин скорее всего читал «К генеалогии морали», хотя это точно неизвестно; косвенным доказательством, согласно Хамахеру, служит наличие в списке прочитанных Беньямином книг «По ту сторону добра и зла»[118]. По Ницше, Schuld возникает из основания западной этики — древнего «договорного отношения между заимодавцем и должником», которое восходит к «основополагающим формам купли, продажи, обмена и торговли»[119]. Вина, таким образом, является обязательством, долгом, гарантией, которая должна быть физически уплачена или обеспечена чем-то реальным. Важно, что, по Ницше, нельзя полностью освободиться от этой задолженности. Постепенно долг становится моральной и правовой виной и в конечном счете ведет к наказанию[120]. Тем не менее, радикализация долга сохраняет возможность искупления через добропорядочное поведение, наказание или веру[117]. Кроме того, всеобъемлющая и возрастающая вина выходит за пределы социальных отношений, возникает чувство задолженности перед Создателем[117], напрямую связываемое Ницше с божественной природой и величием Бога[119][К 7]:
Беньямин принимает модель Ницше о самопорождении, самоконституировании вины в религиозном сознании и использует её для понимания капитализма как религии, прежде всего в рассмотрении роли долга в капитализме[117][120]. Внося коррективы в рассуждение Ницше, Беньямин менее радикально использует Schuld, оставляя амбивалентность, не сводя вину к долгу и не устанавливая причинно-следственные связи между двумя понятиями — у Беньямина термин колеблется между двумя значениями[121]. Вайднер сближает его с двойным знаком в семиотике франко-американского структуралиста Мишеля Риффатера[фр.][К 8]. Двойной знак связывает два семиотических кода — капитализм как религия и капитализм, который не является религией (противоречие). Следовательно, заключает Вайднер, капитализм как религия вовсе не есть религия, а лишь демоническое проявление[121]. Как указывает Хамахер, для Беньямина двусмысленность как нечто нерешенное и недифференцированное упраздняет свободу (и освобождение) как возможность решения и подчиняет человека экономическим силам происхождения и преемственности[122][81]. «Демоническое», отмечает Вайднер, является ключевым предикатом творчества Беньямина[121]. В ранних текстах и дискуссиях с Шолемом Беньямин относил к «демоническому» неправомерное смешение различных областей[121], связывая Schuld с понятием Schicksal (судьба). Schuld формулировалось не как экономическое или религиозное понятие, а как мифическое («К критике насилия» и «Судьба и характер»)[115], близкое к демоническому, отличное от религиозного, не подлинно религиозное («Судьба и характер»)[121][47]. В «Судьбе и характере» Беньямин разграничил понятие судьбы, возникшее из языческого мифа, связанное с порядком права и поддерживаемое «несчастьем и виной», и понятие характера, относимое к комедии и театру. В качестве сингулярных явлений комедия и театр противопоставлялись обобщающим вердиктам закона, вины и судьбы[123][116]. Беньямин замечает в «Судьбе и характере», что порядок права есть не более чем «пережиток демонической стадии в существовании человека», который вместо разрыва с древним порядком судьбы сохраняет и воспроизводит его, поэтому «право приговаривает человека не к наказанию, а к вине. Судьба для живущего неразрывно связана [Schuldzusammenhang] с виной»[47][124][125]. Во фрагменте фраза «капитализм и право. Языческий характер права» сопровождается ссылкой на «Рассуждения о насилии» Сореля[126][127]. Раш полагает, что в основе понимания вины во фрагменте лежит обсуждение мифического и божественного насилия в «К критике насилия»[К 9]. Мифическое насилие (закон) производит вину и воспроизводит структуру власти и насилия, причем в нём не разделены правоустанавливающие и правоподдерживающие функции (легитимность и легальность в терминах Карла Шмитта)[128]. Божественное насилие, которое трудно определить в позитивных терминах, освобождает от вины, являясь чистым разрушением. По мнению Раша, понятие божественного насилия имплицитно присутствует во фрагменте[129][130]. Судьба и вина тесно связаны с понятием «голая жизнь» (нем. das bloße Leben)[К 10], важным для ранних работ Беньямина[123][131]. В статье «К критике насилия» Беньямин писал, что, согласно древнему мифологическому мышлению, «голая жизнь… является носителем вины»[125]. Как указывает С. Вебер, человек становится субъектом судьбы и, следовательно, вины, только если он сводится порядком права к естественному измерению, к биологическому существованию — голой жизни (чистой имманентности)[123]. Парадоксальным образом такой редукционизм невозможен без рассмотрения жизни как автономной, что позволяет вписать человека в сеть вины (нем. Schuldzusammenhang). Задолженность перед другими интериоризируется и становится имманентным внутренним свойством, а не чертой, принадлежащей субъекту моральной виновностью (к примеру, первородный грех понимается как внутренняя причина смерти). В качестве вины Schuld определяет голую жизнь через действия и намерения, устраняя тем самым гетерогенность человеческого бытия и присваивая его. Судьба, заключает С. Вебер, есть присвоение посредством сети вины[132]. Капитализм, следовательно, есть система вменения вины (как и «так называемые» религии — язычество или христианство), которая приговаривает к вине и наказанию, чтобы нажиться на долге и одновременно увеличить его[93][133].  В отсутствие догматики в капиталистическом культе, отмечает Раш, единство общества обеспечивается тотальной и вездесущей системой вины и долга[134]. Долг не следует из свободного и подчинённого морали действия, а вписан в объективную структуру вины[135]. По мнению Росса, долг для Беньямина является основополагающим принципом капиталистической экономической системы, обратной стороной прибыли; с помощью долга капитализм воспроизводится и расширяется, капитал захватывает не только средства производства, но и труд, мышление, планирование, досуг и т. д.[136] Если христианский Бог в качестве кредитора обладал индивидуальными чертами — любовью, пониманием или прощением, то в капиталистическом культе нет ни кредитора, ни должника, а есть только долг как абсолютный горизонт любого действия и мышления[137]. Как отмечает Росс, в качестве основополагающего принципа капитализма Schuld имеет связь с Францем Кафкой, одной из важнейших фигур для литературной критики Беньямина. Вопреки теологическим интерпретациям первого поколения кафковедов, Беньямин вывел на первый план в творчестве Кафки опыт вины. В романе «Процесс» виновность Йозефа К. не обусловлена теологической верой, а происходит из повседневных ситуаций; возникает, в конечном счете, из желания понять непостижимый принцип организации социального мира[138]. Schuld является и моральной, и исторической категорией, образующей специфическую констелляцию; в эпоху капитализма вина достигает апогея. Согласно Хамахеру, историческое время вины (область мифа и закона) противостоит этической сфере свободы и свободного действия[53]. Господство категории вины исключает опыт времени и истории, поскольку все времена связаны и синхронизированы через схемы каузальности и вины[139]. В трактовке Хамахера фрагмент представляет критику истории как вины, главным объектом критики выступают христианство как религия экономики вины и капитализм как детерминистская система религии долга[27]. Следуя Хамахеру, австралийский философ Эндрю Бенджамин[англ.] противопоставил два модуса исторического времени — религию, которая, как и капитализм, создает позиции субъектов и подчиняет себе пространство опыта и теологию, относящуюся к мессианскому прерыванию истории («этическое время», по выражению Хамахера, также отождествляемое с политическим временем[140][141]). Религия, судьба и вина представляют темпоральную логику бесконечного повторения одинакового, эта логика воспроизводится и в перманентной длительности капиталистического культа[142]. Хамахер приводит заметку Беньямина конца 1910-х годов[143]:
Категория вины, по мнению Хамахера, во-первых, является генеалогической категорией, поскольку связана с «происхождением» (в древнегреческом смысле αιτια) — то, что происходит, следует из предыдущего и раскрывает что-то, заложенное в нём. Во-вторых, вина не действует как механическая причинность, историческая тотальность вины выходит за рамки причинно-следственных отношений в область морали, которая, как и свобода, находится вне причинного детерминизма (такой подход близок неокантианству Германа Когена в работе «Этика чистой воли»)[144]. В-третьих, этиология времени и истории предполагает, по Хамахеру, специфическую причинность: вина является отношением нехватки и отсутствия и, определяя содержание истории, всегда порождает недостаток, неудачу, дефицит[81][145]. Тотальность Schuld означает, по мнению Соостена, что невозможно какое-либо иное обременение, относимое к будущему (прогресс) или прошлому (детство как состояние невинности — метафора рая). Schuld охватывает все времена, её невозможно погасить (погашение долга), оплатить (покупка) или осуществить предоплату (обмен, кредит, инвестиции)[146]. Вина для Беньямина, полагает Приддат, связана с проблемой обессиливания человека, вызванного дегуманизацией или отчуждением (в терминах Маркса), которое переводится в теологический регистр, умаления человека при капитализме. Оборотной стороной обессиливания является экспансионизм капитализма — «усиление человека», выражающее гордыню (гибрис)[147]. Как пишет Приддат, Беньямин обращается к модели первородного греха, но использует её не в смысле теологической антропологии, а в исторической перспективе; Schuld относится к капитализму как конкретной исторической формации. Если изгнание из рая заставило человека трудиться, преобразовывать природу, то во втором грехопадении тотальная вина больше не является грехом, нарушающим божьи заповеди, а относится к социальным различиям в буржуазном обществе[148]. Возникновение капитализма связывается с социальными и технологическими изменениями, общество впервые отделяется от экономики, которая теперь подчиняется принципу производительности в условиях рыночной конкуренции и общественного разделения труда. Бремя труда сохраняется, но его целью становится повышение производительности, в результате упраздняется сотрудничество и растет отчуждение; иными словами, заключает Приддат, происходит второе грехопадение, в котором тотальная вина разрушает творение[149]. Виновный БогВсеобъемлющая и всевозрастающая вина подчиняет себе даже Бога. «Чудовищное» (нем. ungeheueren) движение капитализма, указывает С. Вебер, не просто создает «безмерное осознание вины», но и подвешивает в пустоте сеть, место в котором мы стоим. В результате мы оказываемся в коллапсе (нем. Sturz) или погружении, то есть в чудовищном падении в бездну, в которое вовлечены не только мы, но и вся вселенная, включая Создателя, ставшего частью мироздания. Поэтому мироздание больше не является Его творением или образом, а стало безальтернативным процессом разрастания вины и отчаяния[150]. Как пишет Хамахер, падение Бога глубже, чем грехопадение Адама, сохранявшего связь с Богом, поскольку Бог отпал от самого Себя в отступничество, разобщенность, одиночество и отчаяние, которые исключают возможность невиновности[151]. Включение (нем. einbezogen) Бога в человеческий удел означает, что божественное отныне охвачено сетью вины[152][153], властвующей над голой жизнью. С. Вебер отмечает, ссылаясь на записи Беньямина (1918), что наказанием для виновной голой жизни оказывается смерть[133]. В заметках Беньямин лаконично писал[153]:
Капиталистический культ, пишет С. Вебер, избегает смерти, в отличие от Бога, который, как и голая жизнь, наказывается смертью[153]. Во фрагменте не раскрываются механизмы бессмертия капитализма — обмен и присвоение, эта тема была исследована позднее, в «Пассажах»; однако, согласно С. Веберу, Беньямин уже настаивает, что для воспроизводства системы капиталистического культа требуется определённый образ человека, обожествлённый в той степени, в какой очеловечен образ Бога. Потерявший трансцендентность Бог описывается во фрагменте в терминах несовершенства — зрелости и незрелости. Так как капиталистический культ нацелен на бесконечное самовоспроизводство и преодоление как собственного конца, так и голой жизни, то несовершенный Бог, следовательно, должен оставаться «сокрытым» (четвертая черта капитализма), хотя и доступным. К нему можно обращаться лишь в «зените виновности» — кульминации вины или задолженности голой жизни перед смертью (С. Вебер)[154]. Четвёртая черта капитализма, по мнению Хамахера, есть «тайна» вины Бога, виновного в своем небытии, в том, что Его нет[155]. Бог — это название для отсрочки, задержки, неудачи человеческих устремлений; своеобразный посредник, полагает Приддат. Отношения между людьми не могут мгновенно стать непосредственными (как предполагается, например, в революции), человек является слишком незрелым. Поэтому Беньямин вводит время ожидания, которое откладывает зрелость человека[156]. С точки зрения семиотического анализа, Вайднер отмечает неожиданное появление скрытого Бога в тексте в качестве четвёртой черты капитализма. Формально тезис противоречит трем первоначально заявленным чертам капитализма, несоответствие читатель может посчитать свойством наброска. Вайднер объясняет резкий переход с помощью понятия «неграмматичность» Мишеля Риффатера, обозначающего насилие над грамматической или синтаксической нормой[157]. Согласно Вайднеру, различение в тексте Бога и религии имеет явное сходство с диалектикой незримого и зримого Бога (deus abscondicus и deus relevatus) в диалектической теологии Карла Барта и его последователей, противопоставлявших религию как область культуры трансцендентному Богу. Вайднер отмечает, что фрагмент оставляет нерешенным вопрос об открытости или сокрытости Бога, отражая неопределенность в образном рассмотрении капитализма как религии[49]. По обобщению Хамахера, тезис о виновности Бога отвергает три возможные альтернативы: во-первых, внутри этой религии невозможно освобождение или искупление системы вины (несмотря на все обещания), она лишь конституирует вину и долг[118]. Во-вторых, невозможно реформирование религии: любая реформа (например, протестантская), как и любая социал-демократическая или социалистическая политика, должна исходить из чего-то, свободного от вины, но такого элемента нет. В-третьих, невозможно отречение от этого культа, поскольку любое отречение останется в логике вины — оно будет обвинением или обвинительным приговором. Провозглашение независимости от мифа не избавляет от него. Хамахер заключает, что освобождение невозможно ни внутри, ни вне системы[158]. Отчаяние, заботы. Капитализм как руина бытияСтруктурными следствиями универсальной системы вины и долга являются отчаяние и одиночество. После обвинения Бога экспансия капитализма достигает «мирового состояния отчаяния», становящимся, по Беньямину, «религиозным состоянием мира». Капитализм учреждает абсолютное отчаяние как универсальное условие — состояние вины, в котором невозможна надежда на избавление от вины в будущем[136], поскольку любая надежда сама направлена в сторону отчаяния[159]. Одиночество и отчаяние следует понимать, полагает Хамахер, как эмоциональное опустошение, вызванное кальвинизмом (Вебер), муки совести под влиянием аскетических идеалов (Ницше) и отчаяние как болезнь к смерти (Сёрен Кьеркегор)[12]. Если для Ницше религия являлась своего рода лекарством, хотя и превращавшим в больного, то для Беньямина капиталистический культ приводит не просто к болезни, а к отчаянию[117]. «Мировое состояние отчаяния» связывается с пессимистическим анализом М. Вебера, его «железной клеткой», в которой сила капитализма непреодолима и неизбежна, как судьба[160][161]. В описании «абсолютного одиночества» как черты человека модерна Беньямин использует астрологическую метафору — прохождение человеческой планеты через дом[К 11] отчаяния, отсылая тем самым к Ницше: сверхчеловеку, астрологическим образам[12] и, вероятно, к циклической идее вечного возвращения[162][К 12]. В этом ницшеанском описании, пишет Приддает, вводится новое измерение отчуждения, движение капитализма отчуждает человека дважды — от Бога и от самого себя. Орбитальное движение может быть эллиптическим или круговым, но в конечном счете является циклическим. Переход через отчаяние, отмечает Приддат, представляет лишь момент этого движения, за ним может следовать надежда; путь, однако, остается одиноким[163]. По мнению С. Вебера, движение подчёркивает реляционизм одиночества: речь идет не об отдельном индивиде, а о сложном сочетании (констелляции)[164]. Универсализация вины, достижение «мирового состояния отчаяния» и обвинение Бога приводят к исторически беспрецедентной ситуации, в которой религия больше не является «реформой бытия», а расчленяет его, превращая в руины[165]. Беньямин подчёркивает неслыханность и беспрецедентность этого разрушения; капитализм, отмечает Хамахер, есть структура мышления, опыта и действия, которая полностью разрушает себя; расколотое бытие, которое становится чем-то другим, чем оно есть, одновременно раскалывает себя[152]. В качестве «руины бытия» капитализм заменяет быть на иметь, человеческие качества на качества товара, отношения между людьми на денежные отношения, моральные ценности на деньги (Леви)[166]. Мотив разрушения бытия капитализмом не присутствует в тексте эксплицитно, эту тему развивали современные Беньямину критики капитализма, социалисты и романтики, включенные в библиографию фрагмента, — Густав Ландауэр, Жорж Сорель, а также консерватор-романтик начала XIX века Адам Мюллер[166]. Слово Zertrümmerung (раздробление, расчленение или превращение в развалины, руины) явно предвосхищает IX тезис «О понятии истории», где для описания руин прогресса использовалось слово Trümmern[167][166][130]. Согласно Больцу, ангел истории из IX тезиса наблюдает именно гору обломков капитализма как религии, а не руины человеческого прогресса [168]. 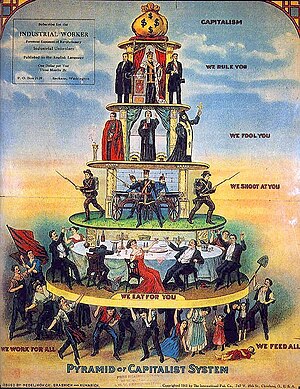 Тезис о естественном состоянии руин или разорения в капитализме соответствует эстетической концепции аллегории, развернутой Беньямином в «Происхождении немецкой барочной драмы» и тесно связанной с негативной философией истории, в которой руины или распад становятся естественным положением вещей. Однако в сотерилогической концепции Беньямина, указывает Соостен, «по-настоящему стабильные явления распада» одновременно содержат спасение («Улица с односторонним движением»)[97]. Беспрецедентное разрушение бытия в высшей точке мифической сети вины, полагает Хамахер, есть одновременно открытие истории[152]. В конце фрагмента «указаниями» на процесс наделения виной оказываются «заботы», глубоко социальные формы осознания вины, содержанием которых является «духовная болезнь» безысходности и отчаяния[63]. Этот опыт является не индивидуальным, а глубоко коллективным — общей судьбой[169]. Экзистенциальные заботы можно понимать в терминах психологии масс — в нескончаемой экономической деятельности человек пытаетcя игнорировать угрозу конечности своих устремлений, полагает немецкий философ и германист Бернд Витте[170]. Согласно Леви, Беньямин заключает, что индивидуальные духовные практики не ставят под вопрос капиталистическую религию и потому не могут предложить выход; коллективные или социальные решения запрещены культом[171]. Как полагает С. Вебер, в начале текста Беньямин не определяет «заботы, мучения, беспокойства», поскольку их содержание определяется ответом капитализма — в универсализации вины капиталистический культ производит «заботы, мучения, беспокойства» через элиминацию альтернатив, будь то трансцендентный Бог или иной тип социальной системы[172]. Первоначально «заботы» не ограничены капитализмом, но, отмечает С. Вебер, последний превращает человека в их владельца или автора; чувство собственности усиливается имманентностью капитализма и отсутствием альтернатив. «Долг-как-вина» воспроизводит и усиливает «заботы, мучения и беспокойства», которые, в свою очередь, являются «указаниями» на вину[173]. Тезис об «указаниях» как заботах, замечает Соостен, поразительно напоминает анализ в «Бытии и времени» Мартина Хайдеггера, у которого вина является не моральным понятием, а онтологическим, экзистенциальным. Согласно формулировке Хайдеггера, изначальная вина «лежит в бытии присутствия как таковом»[174]. По предположению Больца, отчаявшийся «человек забот» Беньямина противостоит «разрушительному характеру», который всегда знает путь. Этот антагонизм проясняется на фоне хайдеггеровского противопоставления «заботы» в качестве ключевого экзистенциала тут-бытия (Dasein) «сокрытостям и притворствам» повседневности[63]. И Хайдеггер, и Беньямин, полагает Соостен, следуют модели Августина non posse non peccare (не способный не грешить). Сотериология Хайдеггера, указывает Соостен, концентрируется на свободе понимания (интеллигибельности) как проявлении решимости, Беньямин же мыслит возможность освобождения в горизонте абсолютной безысходности. Если Хайдеггер скорее подтверждает процесс увеличения вины, то Беньямин рассматривает возможность его прекращения[175]. Бог денег, бог капиталаБеньямин не раскрывает имя сокрытого бога, занявшего место иудео-христианского Бога[42][176]. Ряд комментаторов полагают, что, по Беньямину, богом в капиталистическом культе являются деньги. По мнению Соостена, Беньямин частью следует длительной традиции критики денег, которая восходит к истории о поклонении золотому тельцу в Ветхом Завете, причём противопоставление культа золотого тельца как идолопоклонства монотеистическому Богу является движущей силой религиозной критики. Деньги, таким образом, описываются в религиозных категориях[97][К 13]. Тезис о боге денег подтверждается, в частности, библиографией фрагмента, хотя, вероятно, не все источники упомянуты[33]. Критика денег, прежде всего в форме капитала, как обвиняющего и виновного бога, указывает Хамахер, фигурирует в «Размышлениях о насилии» Сореля, «Речах о словоохотливости» Адама Мюллера, «Призыве к социализму» Ландауэра[178]. Среди имплицитных источников называются Маркс, Ницше и учитель Беньямина и его «интеллектуальный предшественник» (по выражению Фредрика Джеймисона) социолог Георг Зиммель[179][180][181][182]. Штайнер обнаруживает отсылку к «Фаусту» Гёте в короткой фразе о древнегреческом боге богатства Плутосе. В сцене «Маскарад» Фауст надевает маску Плутоса, становясь создателем бумажных денег, вместо богатства порождающих долги[110]. Тезис о деньгах, заменяющих человеческие отношения, появляется у раннего Маркса в «Заметках по поводу книги Джемса Милля» (1844)[К 14]; в качестве посредника, получающего «действительную власть» над людьми, деньги функционально сравниваются Марксом с Христом как отчужденным богом и отчужденным человеком. В капиталистическом обществе «посредник становится действительным богом. Его культ становится самоцелью»[183]. Позднее Маркс отождествлял деньги с движением капитала, считал их признаком богатства и власти и в конечном счете приравнивал к Богу[184]. У Ницше в «К генеалогии морали», пишет Хамахер, Бог является божественным кредитором, который не только жертвует себя должнику, но и должен ему эту жертву; так как Бог является высшей инстанцией в бытии, Он не должен ничего никому, а должен Cебя Себе — это единственный способ, каким Он может «быть» из Его «небытия», заключает Хамахер[185]. В яростной критике капитализма Ландауэр писал, что «деньги стали Богом, стали пожирателем человека», идолом и чудовищем, одновременно искусственной и живой вещью, они не создают богатство, а являются богатством[186][187][33]. Если трактовать Беньямина через Ландауэра, пишет Соостен, то даже богачи превращаются в функцию денег, что стирает классовые различия между богатыми и бедными, остаются лишь тотальный долг и «бессмертные» деньги[146].
Обожествление денег рассматривается в контексте взглядов Зиммеля и Джона Мейнарда Кейнса. Социология Зиммеля («Философия денег», 1900), первого мыслителя капиталистического города, раскрывала противоречивость и амбивалентность негативной свободы в обществе модерна[182]. Секуляризация сочеталась с невозможностью достижения счастья, а роль денег в рационализации — с их проникновением во все сферы общества[188], что влекло математизацию социальной жизни. Деньги формируют единство множественности мира, совмещают материальное и духовное, подчиняют пространство и время — мир вещей и социальный мир, преодолевают различие между возможным и реальным, то есть приобретают функции религии в определении Лумана[189]. Кроме того, для Зиммеля развитие капитализма неизбежно увеличивало разрыв между богатыми и бедными[188]. Как пишет Штайнер, Зиммель рассматривал движение от архаичных культов к социальной дифференциации, а Беньямин показывал несвободный, культовый характер денег в капитализме[182]. Если Зиммель оказал прямое влияние на фрагмент[190], то Кейнс, который не читал Беньямина, в «Общей теории занятости, процента и денег» схожим образом писал, что деньги гарантируют безопасность перед лицом неопределенности будущего, то есть выполняют религиозные функции, заменив Бога[191]. Как отмечал испанский теолог и философ Хосе Игнасио Гонсалес Фаус[исп.], Кейнс связывал идолопоклонство перед деньгами с суеверным «предпочтением ликвидности», губительным для экономики, поскольку оно приводит к накоплению непроизводительного капитала, стимулирует желание спекулировать и получать проценты, а не инвестировать. В итоге, заключал Кейнс, повышаются процентные ставки и неизбежно растет безработица[192]. Интерпретацию Бога капитализма как денег подтверждают строки во фрагменте, где Беньямин предлагает сравнить иконы святых в «обычных» религиях и изображения на государственных банкнотах и пишет об учреждении деньгами собственного мифа. Как пишет Леви, деньги в форме банкнот есть такой же объект культа, как иконы святых в «обычных» религиях[16][193]. Возможно, тезис об иконографии банкнот отсылает к языческому характеру культа[87]. Беньямин завершает абзац фразой о духе, который говорит через орнаментику банкнот. С. Вебер отмечает, что Беньямин явно противопоставляет дух на иконах святых духу капитализма, хотя в обоих случаях это, несомненно, дух. Теперь дух «обозначает» не индивидуальное страдание и обещание трансцендентности, а числовую меру стоимости как социальное отношение силы. Орнаментика, хотя и дифференцирует, измеряет и выражает стоимость, полностью оторвана от неё и от любого содержания[194]. Идея «духа капитализма», говорящего через банкноты, вновь появится в «Улице с односторонним движением». В афоризме «Налоговая консультация» Беньямин писал о «священной серьёзности» банкнот, сравнивая их «фасадом преисподней»[87], что, по мнению Леви, отсылает к надписи над вратами ада в «Божественной комедии» Данте — «Оставь надежду, всяк сюда входящий», относимой Марксом к судьбе рабочих на капиталистическом предприятии[16]. Банкноты, однако, являются лишь одним из проявлений капиталистического божества — можно говорить о поклонении деньгам, богатству, товару[195]. Деньги становятся не просто богом, наделяющим виной, а виновным богом-должником, который, по мнению Хамахера, соответствует двум формам неоплаченного кредита в марксовом структурном анализе капитала. В знаменитой 24 главе «Капитала» Маркс иронически описывал первоначальное накопление капитала и возникновение прибавочной стоимости в теологических терминах[К 15]. Тем самым Маркс предварил последующие подходы Ницше и Вебера и, вероятно, стал одним из источников для Беньямина[197][198][199]. В начале главы Маркс объясняет структурную связь между возникновением капиталистической системы и религией, указывая на параллель между первородным грехом и бременем «есть свой хлеб в поте лица своего» (Быт. 3:19). И теологическое проклятье, и экономическое порицание оправдываются, по Марксу, первородным грехом[200]. По мнению итальянского германиста и теоретика культуры Мауро Понци, Маркс деконструирует экономический миф, противопоставляющий трудолюбивых и бережливых «избранников», накапливающих капитал, всем остальным — ленивым «оборванцам», прокучивающим всё, что у них есть[201]. Согласно Марксу, капитал берет неоплаченный кредит (первоначальное накопление), а затем бесконечно возобновляет его через прибавочную стоимость, которая воспроизводит товарооборот без всякой связи с реальным стоимостным эквивалентом[202]. Маркс использует выражение «порочный круг». Это определение, полагает Понци, можно легко расширить на процесс увеличения задолженности и вины[203]. Стадия первоначального накопления и, в конечном счете, формула «деньги — товар — деньги» являются структурно религиозными[178][204]. Процесс наделения капитала производительностью и превращения денег в капитал, а стоимости — в прибавочную стоимость, является порождением Бога «из ничего»: из неоплаченного труда, эксплуатации, колониальной системы, грабежа, убийств[178]. Абсолютная прибавочная стоимость и абсолютный капитал есть не что иное, как кредит и одновременно долг, то есть Бог, производящий себя «из ничего», из собственного кредита, который никогда не будет оплачен[205]. В конце главы Маркс прямо связывает увеличение государственного долга с первородным грехом — «верой капитала», причём, отмечает Понци, задолженность в данном контексте имеют явный оттенок вины[206]. Маркс пишет о государственном долге, одном из главных рычагов первоначального накопления, волшебным образом превращающим непроизводительные деньги в капитал[207][208][198]:
Вера капитала, заключает Хамахер, не есть вера торговца в капитал, а есть вера капитала в себя как в Бога, причем абсурдная вера в то, чего нет; этот бог исповедует свой «дебет», состоящий в том, что он должен себя себе[178][204]. Неизвестно, был ли Беньямин знаком с 24 главой «Капитала» на момент написания фрагмента, возможно, он знал её по изложениям. Штайнер предполагает, что источником сведений была книга Сореля «Размышления о насилии», где излагалась в том числе и концепция первоначального накопления[209]. Беньямин, однако, читал «Манифест Коммунистической партии», в котором библейские гиперболы и неожиданные отступления играли важную роль[196]. «Три жреца капитализма»: Фрейд, Ницше, МарксБеньямин называет Фрейда, Ницше и Маркса тремя жрецами капиталистической религии. Выбор трех мыслителей, названных Полем Рикёром «властителями подозрения» и являющихся в определённом смысле «отцами модерна», выглядит довольно неожиданным[210]. Для Беньямина сходство трех теорий в том, что они миметическим образом отражают религиозную структуру капитализма, поскольку имманентны логике изучаемого ими объекта[211][13]. Три автора неосознанно систематизируют теоретическое тело капиталистической религии, однако эта систематизация имеет оскорбительную природу, так как капитализм — всего лишь религия культа[212]. По выражению российского философа Михаила Рыклина, для Беньямина даже великие мыслители терпят неудачу, поскольку не замечают религиозной природы капитализма и видят выход там, где находится лишь очередной вход в храм капиталистической религии[213]. Согласно Штайнеру, указание на жрецов (а не пророков) имплицитно отсылает к Веберу, который в работе «Cоциология религии» (1920) подчеркивал ключевую роль жречества в формировании более рациональной религии. Четкая структура этой социальной группы, со своими нормами, обусловленная местом, временем и социальными связями, по Веберу, влияет на представления о Боге, который очеловечивается, социальные изменения прямо воздействуют на теологию[212]. Структурную близость теории Фрейда[К 16] к капитализму Беньямин фиксирует через понятие о вытеснении, которое Фрейд считал одним из «краеугольных камней здания психоанализа»[13][215]. В концепции культуры Фрейда истоки религии, морали, общества и искусства лежат в изначальной вине (нем. Urschuld) — убийстве отца, которое в «Тотеме и табу» описывается как «великое событие, с которого началась культура и которое с тех пор не дает покоя человечеству». Вытесненные воспоминания об убийстве отца неизменно возвращаются в мучительном чувстве вины, более или менее рациональной формой умиротворения которого является религия. С точки зрения Беньямина, помещая вину в основание общества, религии и политики[К 17], Фрейд абсолютизирует её и, следовательно, не может освободить человечество от логики вины и долга. Метапсихологическая перспектива психоанализа подчиняется «экономической» точке зрения, фрейдовское понимание модерна подтверждает и радикализирует необратимый момент вины. Теория Фрейда является частью заклинаний капиталистического культа[216][13][214]. В середине фрагмента Беньямин пишет о «глубочайшей аналогии» между «вытесненным» (Фрейд) и «капиталом» (Маркс). С. Вебер связывает критику теорий Фрейда и Маркса с четвёртой чертой капитализма — сокрытием Бога, которое приводит к тому, что поклонение невидимому Богу осуществляется через возобновление (у Фрейда и Маркса) самого процесса сокрытия[217]. Объект вытеснения является, во-первых, представлением (нем. Vorstellung) и, во-вторых, «греховным» представлением, поскольку пытается представить нечто нерепрезентируемое[218]. Беньямин не уточняет, что именно избегает репрезентации: рабочее время, создающее меру стоимости (Маркс и Давид Рикардо) или трансцендентная инаковость Бога. По предположению С. Вебера, вытеснение и капитал рассматривается Беньямином с теологической перспективы: сравнивая вытесненные в бессознательное представления с капиталом, Беньямин использует модель производства греха (вины и долга). В обоих случаях процесс является самовоспроизводством, которое можно понимать только в терминах количества и роста[219]. Иллюстрацией критики психоанализа, согласно Хамахеру, является запись о Плутосе, часто отождествляемым с Плутоном; владыка загробного мира оказывается богом бессознательного и богом достатка[214]. Связь между культурной антропологией психоанализа и философией Ницше наметил ещё Фрейд в одной из работ 1921 года, которую, по мнению Штайнера, мог читать Беньямин. Фрейд намеренно придал сверхвластной фигуре отца, отнесенной к предыстории человечества, черты сверхчеловека, которого «Ницше ожидал лишь в будущем» (Фрейд)[13]. Отношение Беньямина к Ницше, который был критиком религии и христианской морали, во фрагменте остается непрояснённым и довольно амбивалентным[171][219][167]. С одной стороны, аристократический и элитистский подход Ницше противоречил левым взглядам Беньямина; с другой стороны, автор фрагмента не отказывался от нигилистических категорий Ницше[220], подразумевая и вместе с тем игнорируя пионерский анализ амбивалентности Schuld в «К генеалогии морали», на котором основан собственный аргумент Беньямина[221]. Критика Ницше, таким образом, не противоречит использованию его идей. Некоторые авторы полагают[220][118], что многие из рассуждений Ницше вполне применимы к анализу капитализма, что Беньямин и делает во фрагменте[К 18][220]. Трагический героизм Заратустры во фрагменте Беньямина превращается в наиболее радикальное и грандиозное воплощение религиозной сущности капитализма[13]. Провозглашая смерть Бога, Ницше признает огромную вину, которую сверхчеловек должен не искупить, а героически взять на себя[222]. В преодолении трансцендентного Ницше предлагает не смиренное покаяние (метанойя), очищение или искупление, а усиление, увеличение или возрастание (Steigerung) и гордыню (гибрис)[13]. Steigerung — одно из ключевых понятий фрагмента, оно используется в ницшеанском смысле как рост, увеличение капитала, а также долга[223]. Согласно Леви, сверхчеловек лишь усиливает гибрис, культ мощи и бесконечной экспансии капиталистической религии[222], не ставит под сомнение виновность и отчаяние, а оставляет людей на произвол судьбы. Попытка индивидов, желающих казаться исключительными или аристократической элитой, выйти из «стального круга» капитализма лишь воспроизводит его логику (Леви)[14]. Капиталистический идеал Steigerung, отрицающий существование Бога и направленный на бесконечное увеличение прибыли, соответствует модели сверхчеловека. Cверхчеловек — это капиталист, обожествленный человек, практикующий капитализм как религию, а Ницше — апологет капитализма. Беньямин дистанцируется от Ницше, во-первых, с помощью политико-теологического инструментария, и во-вторых, проецируя в метафизическое измерение капиталистическую модель бесконечного роста. Согласно Понци[224], тем самым Беньямин предвосхищает подходы Хайдеггера и Карла Лёвита (сверхчеловек несомненно связан с доктриной вечного возвращения[62][225]). Сверхчеловек, отмечает Больц, является Антихристом в той мере, в какой он отрицает христианские представления о покаянии и подлинном аскетизме: в абсолютной имманентности сверхчеловека его апокалиптический прыжок — лишь следствие постоянного роста[168]. Иная трактовка у С. Вебера: Беньямин, с одной стороны, упрекает Ницше за то, что тот остается в рамках традиционного христианского гуманизма (о чём свидетельствует использование христианской терминологии в обсуждении Ницше), эта оценка совпадает с критикой Ницше Хайдеггером в лекциях 1930-х годов; с другой стороны, «взрывной» аспект критикуемого во фрагменте этоса Ницше будет разрабатываться Беньямином в последующие годы[226]. Приддат отмечает, что сам Ницше, по меньшей мере в интерпретации Жака Деррида, понимал сверхчеловека иначе. По Деррида, сверхчеловек «пробуждается и уходит… сжигает свой текст и стирает следы своих шагов»; «взрываясь смехом», он будет «взывать к возвращению» и «танцевать» за пределами метафизического гуманизма. Героический танцор Деррида, заключает Приддат, — это пророк капитализма у Беньямина; то, что Деррида считал новой формацией, для Беньямина выражало сущность капитализма[227]. Представления Маркса, как и позиции Ницше, для Беньямина остаются в плену у капиталистического культа вины и долга. По Беньямину, социализм представляет экономическую и социальную систему, возникшую в результате прогрессии капиталистического долга, то есть социализм вписан в движение капитализма. Осуществляя централизацию производства и финансов, социализм получает «проценты» с «долга» капитализма[228][60][158]. В «Манифесте Коммунистической партии» социализм описывается как преемник капитализма: для Маркса буржуазия производит «своих собственных могильщиков. Её гибель и победа пролетариата одинаково неизбежны»[60][222]. По мнению Приддата, скепсис автора фрагмента настолько велик, что даже проект Маркса не способен освободить от вины — Беньямин не представляет состояние невинности или человечности, поскольку человек является слишком незрелым. Поставив себя на место Бога (гибрис), человек в капитализме превратился в «незрелого Бога». Мысль Беньямина, отмечает Приддат, возмутительна для марксистов: капитализм накопил столько вины (долгов), что революция не может быть невиновной и не может искупить вину, люди останутся виновными и после революции[229]. Нацеленность социализма не на индивидуальное покаяние, а на революцию, его замкнутость в порочном круге вины можно трактовать, по мнению Палавера, как универсальный механизм «козла отпущения» (в терминах Рене Жирара). У Маркса «народной массе предстоит экспроприировать немногих узурпаторов» («Капитал») для установления «рая на земле», что, по Палаверу, соответствует языческой логике жертвоприношения[86]. Вместе с тем, полагает Гонсалес Фаус, критика Маркса Беньямином является наиболее слабой из трех, поскольку сам Маркс сравнивал капитал со Зверем Апокалипсиса[К 19][230].  Согласно распространенной точке зрения, в критике Маркса Беньямин следовал либертарному и религиозному социализму германо-еврейского анархиста Густава Ландауэра[231][232][158]. В книге «Призыв к социализму» (1911), включенной в библиографию фрагмента, Ландауэр метафорически сравнивал марксистский социализм с «бумажным цветком на любимом терновом кусте капитализма»[158][127]. Как пишет Леви, трудно оценить, в какой степени Беньямин разделял взгляды Ландауэра на момент написания фрагмента[195]; известно, что в те годы Беньямин читал работы социалистов, симпатизировал анархистам, не рассматривая Маркса как мыслителя первого ряда. Считается, что Беньямин изменил отношение к Марксу под влиянием книги Лукача «История и классовое сознание», прочитанной в 1924 году[228][233]. По мнению Штайнера, трактовка Беньямина не слишком далека и от позиции Вебера, считавшего социализм и капитализм братьями-близнецами (Вебер частью следовал Фердинанду Тённису и Зиммелю), поскольку обе системы исходят из уникальной для западного общества рациональной организации труда; всецело исполненный духом капитализма социализм оказывается, по Веберу, одной из форм рационализации, возможно сменяющей капитализм[60]. Umkehr, спасение и предел капитализмаВозможность освобождения от капитализма Беньямином не проясняется, комментаторы по-разному интерпретируют его позицию, исходя из косвенных намёков, во фрагменте говорится об «ожидании исцеления». Ключевым понятием в возможном преодолении капитализма является Umkehr, представляющий оппозицию Steigerung. Этот многозначный термин (обращение, оборот, поворот, возврат[40]) трижды используется Беньямином, хотя его природа не раскрывается[159][234]. Слово отсылает к творчеству немецкого поэта-романтика Фридриха Гёльдерлина[226]; в форме Umkehrung употребляется Ницше в пассаже из «К генеалогии морали» применительно к «повороту оценивающего взгляда» в морали рабов, необходимого для них обращения к внешнему миру (воплощению ресентимента для Ницше)[235]. Но скорее всего Беньямин заимствовал слово у Ландауэра, который писал, что «социализм — это Umkehr»[127][236]; противостоящий бездушной машине капитализма социализм понимался Ландуаэром как духовное изменение, предшествующее социальным и материальным изменениям; новое начало, возврат к подлинным человеческим отношениям, восстановление связи с природой[237][238]. Вряд ли Беньямин в полной мере соглашался с тезисом об обновлении человечества через воссоединение с природой, но он воспринял у Ландауэра ключевой термин[127]. С точки зрения интеллектуального контекста фрагмента, возможность выхода из капитализма отсылает и к идеям Унгера и Сореля, хотя, как и с Ландауэром, неясно, в какой мере Беньямин разделял их взгляды. В цитируемой Беньямином книге Унгера «Политика и метафизика» (1921) автор пытался преодолеть капитализм с помощью ухода или переселения народов (нем. Völkerwanderung), по аналогии с ветхозаветным Исходом. С точки зрения Унгера, открытая борьба с капиталистической системой обречена на неудачу, она остается в сфере действия капитализма, который поглощает любое противодействие[239][60]. Из переписки с Шолемом известно, что Беньямин положительно отзывался о «метафизическом анархизме» Унгера[240]. По мнению Соостена, Беньямин, в отличие от Унгера, рассматривал преодоление капитализма в терминах эсхатологической темпоральности, а не пространства[238][241]. Анархистские симпатии Беньямина на момент написания фрагмента подтверждаются ссылкой на книгу анархо-синдикалиста Сореля «Размышления о насилии» (1906). На указанных страницах Сорель описывал возникновение в классической политэкономии убеждения о том, что капиталистический способ производства подчиняется естественным законам эволюции[242][232]. Сорель скептически воспринимал вопросы организации пролетариата и революционной практики, выступая против простой замены буржуазного государства на социалистическое, хотя и отдавал должное экономическому и политическому анализу Маркса. С точки зрения Сореля, в конститутивных признаках буржуазного государства были заложены стратегии его разрушения. Французский синдикалист пытался объединить революционный аспект марксизма с собственным учением о мифе всеобщей пролетарской стачки[127].  Беньямин использует Umkehr для критики Ницше, Фрейда и Маркса, утверждая, что их философии остаются в противоположной Umkehr капиталистической логике Steigerung[238][222]. Согласно одной из трактовок (Штайнер и др.), Umkehr обозначает подлинную революционную политику, противостоящую капитализму и его системе вины / долга. В данной версии Umkehr является полностью профанной политикой, а не той или иной подлинной религией. Интерпретация исходит из гипотезы, что фрагмент был частью масштабного проекта о политике[60][243]. С этой точки зрения, Umkehr было в центре политических размышлений Беньямина, понятие обозначало изменение движения, обращение, радикальный разрыв, новое начало[244]. Как пишет Штайнер, Беньямин противопоставлял капитализму как религии — мифическому и демоническому закону судьбы и вины — автономную область политического, в центре которой находится профанная идея счастья. Более явно политическая альтернатива религии и, соответственно, капитализму была изложена в «Судьбе и характере» и «Теолого-политическом фрагменте»[245][246]. По мнению Сальцани, Umkehr соответствует рассмотренной Беньямином в «К критике насилия» модели Сореля «всеобщая пролетарская стачка», которая описывала политический разрыв с мифическим кругом насилия и возмездия в капитализме[247]. По другой трактовке, несмотря на интерес к критикам капитализма (Унгер и др.), Беньямин отвергает возможность политических решений[146]. Слово Umkehr имеет явный религиозный оттенок (обращение), что, по оценке Сальцани, повлияло на интерпретации: часть комментаторов трактует Umkehr как покаяние, метанойю, искупление[211]. Хамахер предлагает понимать Umkehr как радикальное изменение, разрыв с логикой Schuld, Приддат — как re-volutio и кризис[211]. Cогласно Приддату, фрагмент имплицитно предлагает два варианта выхода. Одна возможность — революция в марксовом смысле, но Беньямин намекает на её бесперспективность, поскольку она сама относится к системе отчаяния; второй вариант — Umkehr, обращение, re-volutio[248]. Как пишет Приддат, очевидно, что Беньямин точно не знает, откуда придет «исцеление», а предполагает, что это может быть Umkehr. С помощью понятия, имеющего оттенок покаяния, автор фрагмента пытается преодолеть концепцию сверхчеловека Ницше[249]. По мнению Соостена, Беньямин придерживается идеи спасения, но предлагает иной путь, чем Ницше, не модель роста и увеличения, а скорее торможения и рецессии; Беньямин исходит из Status corruptionis, что предполагает избавление как annihilatio mundi, не с помощью воспоминания, а скорее через забвение и уничтожение падшего мира[250]. Согласно трактовке Больца, Umkehr совмещает отсылки к прерыванию истории, метанойе, покаянию, очищению и революции[82][251]. Спасение возможно лишь в глубине вселенских руин — в безысходности или «мировом состоянии отчаяния»[252], но вопрос о причинно-следственных связях остается открытым. С одной стороны, «капитализм как религия» вписан в более широкое движение, поэтому всеохватность капиталистического культа вины намечает его конец — тут возможна мессианская динамика, «слабая мессианская сила» (Вайднер). В качестве «руины бытия» капитализм разрушит себя, разрастание отчаяния приведет к исцелению. По мнению Вайднера, появление Бога (в тексте) и окончательное превращение в религию приведет к концу капитализма: Бог логически следует из капитализма и обозначает его апокалиптический конец[253][К 20]. С другой стороны, вера в чудесный переход от отчаяния к сверхчеловеку (Ницше) или от капитализма к социализму (Маркс) описывается скорее как реликт религиозного сознания, поскольку оба подхода рассматривают избавление как вознаграждение за преданность[254]. Тотальность вины и отчаяния, указывает Росс, связывается с избавлением как возможностью для действия (такой подход предвосхищает окончание «Minima Moralia» Адорно). Несмотря на утверждения некоторых марксистов, неясно, в какой степени Беньямин рассматривал возможность краха или исчезновения капитализма по причине достижения им предела абсолютного отчаяния. Телеологический подход, пишет Росс, противоречит антипрогрессистским «Тезисам о философии истории»; даже во фрагменте Беньямин отвергает диалектическую связь между отчаянием и освобождением от вины, связь, которую он приписывает и Ницше, и Марксу[255][256]. Сформулированные во фрагменте критерии радикальной имманентности капитализма, по мнению М. Рыклина, не оставляют возможности для его преодоления. М. Рыклин отмечает, что подобная проблематика невыносимости капитализма встречается очень часто, даже у таких критиков тоталитаризма, как Ханна Арендт и Франсуа Фюре, осознающих невыносимость капиталистической системы, которую они представляют[257]. Вина человека в капитализме настолько велика, что только Бог может искупить её, но бог, понимаемый лишь в негативном смысле, как неспособность человека взять вину исключительно на себя (Приддат). Поэтому Бог должен вернуться, чтобы люди снова стали людьми. «Разрастание отчаяния» / «исцеление» означают катарсис, эсхатологическую формулу Беньямина, однако Приддат заключает, что фрагмент не проясняет ключевой момент: что произойдет, когда вернувшийся Бог возьмет вину на себя[258]. Исходя из трактовки Хамахера, Морман полагает, что, с точки зрения философии истории, Беньямин допускал возможность времени после капитализма. Этическая критика капитализма явно связывалась с проблемой политического действия, неотделимого от этической сферы, однако аполитичность, ограниченность описания религиозными, а не политическими терминами, являлась платой за следование избранной критической методологии[53]. Единственной надеждой, полагает Раш, остается полное разрушение мира каким-мы-его-знаем. Агентом этого разрушения является Бог, но, поскольку Он больше не всемогущ, а ввергнут в мир людей, то Бог самоуничтожается через божественное насилие. Остается лишь полная неопределенность относительно будущего, заключает Раш[259][130]. Диспозиция «ни внутри, ни снаружи», отмечает Хамахер, содержит подсказку о преодолении капитализма, освобождении от вины, которое возможно лишь за рамками внутренних и внешних отношений[158]. Движение отчаяния приводит к Umkehr, что обозначает не покаяние или метанойю, а скорее разворот или поворот, «собственное» движение вины на себя[260][225]. Поворот вины следует логике ex nihilo[англ.] («из ничего») — логике бесконечного суждения из работы неокантианца Германа Когена «Логика чистого знания» (1918), которую читал Беньямин. С этой точки зрения, логические категории Когена (ничто, исток) применяются к истории. Согласно «логике истока», после достижения виной (и капитализмом) состояния «ничто» само «ничто» — мифическая экономика долга и вины (культ капитала или Бог) саморазрушается. Капитализм и христианство обращаются к истоку, учреждается этическое время, то есть история, не являющаяся историей вины — мессианизм прощения[261][29]. Логика движения Umkehr описываетcя Хамахером следующим образом: Бог, который мыслится в зените культа капитала, на пределе Его отчаяния, есть вина в себе, Он виновен перед Собой. Следовательно, Он должен Себя Себе, Его не хватает, Он ещё не Бог, Он является Богом только, если Он не Бог. Он есть, следовательно, Его собственное «нет» и «небытие», которое, однако, есть также «не-вина». Если Бог сводится к вине, то Он есть причина «ничто» (недостатка, нехватки, дефицита, ошибки и т. д.), но, поскольку причина уже является «ничто», Он есть «ничтожная причина пустоты»[К 21] и потому, заключает Хамахер, не является причиной или виной[262]. Хамахер замечает, что, поскольку самоуничтожение вины есть бесконечное суждение, которое культ капитала выносит о себе, то это суждение всегда принадлежало структуре вины и наказания. Следовательно, прощение всегда присутствовало в истории вины; история есть одновременно каузальная история вины и история уничтожения вины[263]. История изучения«Капитализм как религия» был опубликован в 1985 году в VI томе cобрания сочинений Беньямина с пометкой «фрагмент 74» (издательство «Suhrkamp Verlag»). Примечательный сборник включал разнообразные тексты, не связанные с главными работами Беньямина[1]. Издание прошло практически незамеченным[29]. Первым откликом была работа Норберта Больца (1989), автор, исследуя наследие Макса Вебера, поместил фрагмент вне рамок узкого контекста работ Беньямина, признав его значение. Больц наметил историко-философские перспективы дальнейшего обсуждения [29]. Позднее (2000; 2003; и др.) Больц утверждал, что описание Беньямина вполне применимо к современным экономическим практикам — маркетингу и рекламе, однако считал политико-теологические импликации фрагмента неактуальными[29]. Филологический анализ был проведен Германом Швеппенхойзером (1992), контекст написания фрагмента — размышления Беньямина о философии и политике — рассматривался в публикациях Уве Штайнера (1998; 2003; и др.)[29][1]. Им впервые была показана масштабность размышлений Беньямина (1998)[264]. Несмотря на известность среди беньяминоведов, обсуждение наброска долгое время было ограничено экспертным сообществом[265]. В 1996 году текст был переведен на английский язык и опубликован издательством «Harvard University Press» в первом томе избранных работ Беньямина[266]. В начале XXI века текст привлек внимание германистов, теоретиков культуры, философов, социологов и экономистов[267]. Одной из первых попыток ввести фрагмент в более широкий философский и идейно-исторический контекст был сборник «Капитализм как религия», выпущенный в 2003 году в немецком издательстве «Kulturverlag Kadmos» (под редакцией социолога Дирка Беккера[нем.]). Антология представляла как предметные научные исследования, так и более вольные толкования наброска[265]. Решающий толчок к росту международного интереса дало обсуждение фрагмента последователем Беньямина, известным итальянским философом Джорджо Агамбеном в книге «Профанации» (2005)[268]. Среди других интерпретаций можно выделить анализ Вернером Хамахером (2002) основополагающей категории вины[29], детальное рассмотрение фрагмента Сэмюэлем Вебером (2008)[1], несколько работ Михаэля Леви (2006; 2010; и др.). В 2014 году группа итальянских исследователей опубликовала сборник «Культ капитала»[268]. Фрагмент переведен на английский, французский, итальянский, испанский, португальский, русский, шведский и датский языки [268]. В сети интернет доступны неопубликованные «свободные» переводы, в частности, на испанском языке[269]. В 2008 году в Москве в Государственном центре современного искусства состоялась конференция «Капитализм как религия?», организованная группой российских арт-критиков, философов, политических активистов[270]. Восприятие и критика «Религиозный поворот» в философии и социальных науках на рубеже XX—XXI веков, ставящий под сомнение классические версии секуляризации[К 22] и расколдовывания мира и помещающий религию в центр опыта современной жизни, отразился на восприятии работ Беньямина[271]. В своем анализе эпохи модерна и модерного общества Беньямин схватывает главные направления философии и анализа социальных и культурных феноменов его времени[272]. В фокусе исследований Беньямина была эпоха модерна и её предыстория[273], критическое мышление позволило ему деконструировать миф модерна: идею прогресса, хотя мыслитель не отрицал прогресс как исторический феномен или его технические достижения[272]. Критический подход привел Беньямина к рассмотрению капитализма как религии, «возможно, самой радикальной из когда-либо существовавших». Если для либерализма капитализм представляется последним и уникальным этапом исторического развития, рост — необходимо объективным, а формы производства отождествляются с цивилизацией и культурой, то у Беньямина капитализм основан на системе вины-долга, которая бесконечно воспроизводит один и тот же механизм прибыли[272]. Текст Беньямина сопротивляется систематической интерпретации[53] и редукции к отдельным ключевым словам, представляя сложное сочетание (констелляцию) понятий[274]. Беньямин излагает свои неортодоксальные взгляды постепенно, его позиция формируется из отдельных тезисов, деталей и конкретных наблюдений[165]. Текстуальные элементы не подчиняются логической согласованности: вина, безысходность и разрушение сочетаются с обещанием исцеления. Как пишет экономист и католический теолог Фридхельм Хенгсбах[нем.], мысли автора, как искры, разлетаются в различных направлениях, не допуская точной интерпретации[275]. С одной точки зрения, «Капитализм как религия» остался фрагментом, поскольку завершенность не достижима, возможна лишь неопределенность интерпретаций[53]. Как отмечал С. Вебер, «в определённом смысле текст никогда не будет написан, или, по меньшей мере, не будет завершен»[276]. По оценке Беккера, притягательность текста определяется его фрагментарным и изменчивым характером, что позволяет смотреть на него с различных перспектив и интерпретаций. Подвижность стиля соответствует изменчивости нашего мышления[212], хотя неясность и амбивалентость текста представляет трудность для перевода. Согласно Беккеру[277][278],
Обращение автора фрагмента к аллегорическим методам в анализе «капитализма как религии» противоречиво. Как пишет Соостен, с одной стороны, Беньямина интересуют не поверхностные дискурсы, а глубина, «прозрение истины»; с другой стороны, анализ симптомов явлений сближает его со «симптоматической» традицией — теологией, социологией, медициной. Аллегорическая и символическая симптоматика Беньямина содержит опасность теоретического фундаментализма, не допускающего различные интерпретации и подчиняющего себе отдельные науки[252]. С этой точки зрения, автор подчиняет масштабное описание капитализма как религии интересам заманчивой драматургической стратегии. Непредсказуемость текста сужает возможности интерпретации: читатель или соглашается или отвергает его как провокацию. Аллегорическая стратегия, заключает Соостен, имеет дело с множеством перспектив лишь на поверхности; в глубине же историческая и философская функция аллегории оказывается предельно жесткой — показать неотвратимость надвигающейся катастрофы[279]. Сравнительно поздняя и незаметная публикация фрагмента определила немногочисленные к 2010 году интерпретации, среди которых Вайднер выделяет две группы, примерно поровну представленные в сборнике 2003 года[1]. Первая группа исходит из названия фрагмента — «Капитализм как религия». Как указывает Беккер, заголовок развенчивает ключевое культурное разделение[280][1]:
Подход Беньямина позволяет размышлять над ситуацией в современном мире, в котором это разделение исчезает. Поэтому ряд исследователей связывают идеи Беньямина с системной теорией Никласа Лумана. С этой точки зрения, фрагмент описывает мир постмодерна и посткапитализма, который лучше всего анализировать через «расколдованный» и «свободный от идеологии» взгляд лумановского наблюдателя. Функционализм теории социальных систем представляет альтернативу марксистскому взгляду на модерн и претендует на более рациональный подход к религии как социальной подсистеме. Совмещение абстрактного функционализма и образного мышления Беньямина, по мнению Вайднера, имеет свои пределы: интерпретация не учитывает распространенные в критической теории эссенциальные трактовки беньяминовского капитализма, его мессианизм и т. д. Недостатком является акцент на обсуждении соотношения религиозного и экономического[281][282]; по замечанию Штайнера, задачей большинства авторов сборника было обосновать альтернативное веберовскому описание современного общества[4]. Вторая группа интерпретаций, напротив, рассматривает фрагмент в контексте современных Беньямину дискурсов и других его работ[283]. Ряд комментаторов связывают текст с поздними работами Беньямина: с «Тезисами о философии истории» (Лёви); с «Пассажами» — фрагмент понимается как первый набросок критики прогресса (немецкий литературовед и теоретик культуры Детлев Шётткер); с последующим пониманием истории в терминах констелляции, кристаллизации и прерывистости, с политизацией истории как «скандала» для настоящего (Больц)[130][284][285]. Данный метод, по мнению Вайднера, имеет два слабых места: во-первых, анализ религии и капитализма по сути становится рассмотрением всех работ Беньямина, а связанные дискурсы тоже весьма амбивалентны и мало что объясняют; во-вторых, попытки уйти от пересказа с целью точнее передать мысль Беньямина приводят к чрезмерному цитированию и таким образом заходят в тупик[283]. Сальцани связывает возросшее внимание к фрагменту с общей ситуацией в беньяминоведении, которое превратилось в настоящую индустрию; комментаторы зачастую смешивают актуальность и полезность в утилитарном смысле, то есть именно то, против чего выступал Беньямин (капиталистического культа невозможно избежать даже в философии и литературной критике)[286]. Можно выделить два основных аспекта критики. Во-первых, сравнение капитализма и религии представляется преувеличением или даже намеренным искажением. Как полагает Хенгсбах, использование слова «религия» ничем не оправдано: Беньямин не может доказать религиозную природу капитализма, а лишь уклоняется от «всеобъемлющей полемики». Его метод основан на излишнем использовании аналогий, аллегорий и критических метафор (например, аллегорическая связь денег с христианской сотериологией)[287][212]. В аналогии скорее проявляются различия между явлениями, а не их сходство, поэтому Беньямин лишь неудачно использует метод сравнения: дефиниции капитализма и религии остаются предельно размытыми, как и отношение между ними, определяемое расплывчатым понятием Verschuldung[212][288]. Беньямин не разворачивает ясную линию аргументации: метафоры, принадлежащие к сфере религии, трансформируются без внутреннего обоснования в «социально-философские, теолого-догматические утверждения». Образы святых в нехристианских религиях, отмечает Хенгсбах, не имеют отношения к возникновению капитализма; на банкнотах первых национальных государств изображались не христианские святые, а античные богини удачи и символы плодородия. Хенгсбах заключает[287][212]:
Во-вторых, подвергается критике и некорректное, узкое понимание религии в тексте, упускающее из виду существенные аспекты религиозного опыта. Религия определяется исключительно как культ, направленный на искупление[212]. Однако, возражает Хенгсбах, христианство не сводится к культу — к безмолвным ритуалам и символическим действиям, — а всегда подразумевает толкование, интерпретацию, рефлексию[288]. Далее, религия связывается исключительно с человеческими пороками. Вина становится тотальной сетью без выхода: виновность следует не из индивидуальных безответственных ошибок, а из коллективной судьбы человечества — изначальной конечности человека. Такой подход, отмечает Хенгсбах, исключает возможность как исторического действия и индивидуальной ответственности, так и политического сопротивления[289]. Непроясненные взгляды Беньямина на секуляризацию реконструируются и как утопические. Задаваясь вопросом, критикует ли Беньямин секуляризацию или пересматривает её, предлагает ли он теологическую или мессианскую альтернативу, Раш находит возможный ответ в ранней работе Агамбена «Грядущее сообщество» (1991). Агамбен приводил толкование Фомой Аквинским лимба, где обитают души некрещёных детей, никогда не слышавших о Боге. Агамбен описывает общность, где боги никогда не теряли свою власть; где никогда не слышали о богах и поэтому не было искушения бесами или нужды в законе; где нет дружбы, поскольку дружба не нужна, если нет врагов; где нет представлений о невинности, ибо никто не испытывал чувства вины. Раш оставляет открытым вопрос, является ли общность без Бога и вины правдоподобной политической моделью или очередной теологической сказкой. Антителеологический аспект этой истории, отмечает Раш, близок Беньямину: так как вина (закон) возникает с приходом богов, включая богов капиталистического культа, то спасение от вины заключается в возврате ко времени до богов. Следовательно, секуляризация — это отсутствие истории, отрицание исторического процесса, а не его кульминация. Эмансипация от богов возможна только в пространстве до их появления, а новая эпоха наступает лишь при условии абсолютного разрушения[290]. Часто указывается, что капитализм 1921 года сильно отличается от современного, позднего капитализма, а элегантные, но не проясненные формулировки Беньямина сегодня имеют мало смысла[291][292][293]. По обобщению Приддата, во-первых, капитализм Беньямина — это марксов капитализм, а не метафора для современной глобальной экономической системы, или даже системы эксплуатации; речь идет об исторической теории саморастворения буржуазного или гражданского общества[нем.] в механизме капиталистического производства. Поэтому беньяминовская концепция родственна левому дискурсу начала XX века (Сорель, Блох, Лукач). Во-вторых, капитализм и вина рассматриваются в теологическом контексте, аналогично марксистской эсхатологии Блоха. Эти два дискурса в настоящее время не являются самоочевидными, поэтому Приддат полагает, что текст Беньямина является и нашим «воспоминанием»[292]. В-третьих, появление богов в секулярном мире модерна отсылает за пределы человеческой субъективности. В этом смысле экономический Бог Беньямина продолжает традицию Иоганна Винкельмана, Гёте, Шиллера и Гёльдерлина, для которых феномен Просвещения представлял зарождающееся противоречие между буржуазным (гражданским) обществом и «искусством как возможностью сделать явным то, что недоступно человеку»[294]. Другие авторы полагают, что теолого-политический метод Беньямина позволяет применять некоторые из его понятий к интерпретации коммуникативных и культурных тенденций нашей эпохи[272]. Как утверждает Беккер, сегодня как никогда правомерно рассматривать капитализм как религию[295]. Религией неоднократно называли социализм[К 23][296], но теперь «социализм» и «революция» исчезли, а «капитализм» и «религия» остались[274]. В отличие от 1921 года, сегодня, после распада Восточного блока и трансформации китайской модели, капитализм не имеет исторических альтернатив. С этой точки зрения, капитализм является неоспоримым и последним горизонтом, господствующим порядком дискурса, последней оставшейся утопией и единственным объектом поклонения[297]. По формулировке Беккера, современное общество «верит, что это его судьба, единственная возможность сделать свою судьбу»[280][297]. Сегодня трудно даже представить возможность некапиталистического общества, а капиталистические ценности приобретают религиозный оттенок[295]. Впрочем, с позиций критики неолиберализма высказывается точка зрения, что подход Беньямина не применим к современному капитализму, поскольку последний, скрывая принуждение и насилие под маской свободы личности, не является религией, в нём отсутствуют прощение и искупление (освобождение от долгов)[298]. Несмотря на расплывчатость формулировок Беньямина, чтение фрагмента, по мнению итальянского философа Стефано Микали, завораживает и гипнотизирует — создается четкое впечатление, что текст проясняет нечто крайне важное о нашей современности[212]. По оценке Агамбена, «Капитализм как религия» — один из наиболее глубоких посмертных текстов Беньямина. По мнению Леви, фрагмент «удивительно актуален»[286], а известный немецкий комментатор трудов Беньямина Буркхардт Линднер (2003) в статье, написанной в контексте событий 11 сентября 2001 года, акцентировал внимание на отвержении Беньямином представлений о прогрессе как попытки освобождения человека от религии и заключал, что фрагмент представляет «эвристически плодотворную и актуальную гипотезу»[299][300][286]. Задаваясь вопросом об актуальности наследия Беньямина, исследователь Даниэль Вайднер на материале фрагмента пытается выяснить, является ли обращение к его текстам лишь данью уважения мыслителю прошлого, выступившему первопроходцем в ряде современных дисциплин, или Беньямин по-прежнему преодолевает границы современной теории. Вайднер приходит к выводу, что фрагмент не только является блистательным текстом, насыщенным идеями, мотивами и образами, но и поднимает актуальные вопросы крайней важности, хотя при внимательном анализе «актуальность» относится не столько к современной ситуации, сколько к поэтическому изменению её понимания[301]. Актуальность фрагмента, полагает Сальцани, можно понимать в терминах самого Беньямина, считавшего, что читаемость и узнавание образов прошлого происходит в специфический момент темпоральной констелляции прошлого и настоящего; поэтому акт чтения и интерпретации фрагмента способен прорвать современный временной континуум капитализма[302].  Холистический подход Беньямина предполагает, что религиозная структура капитализма не ограничивается экономикой, а пронизывает всё общество[53]. Эта установка подвергалась яростной критике, в частности, со стороны Никласа Лумана и Юргена Хабермаса, которые считали, что подобный анализ не имеет смысла, поскольку капитализм составляет отдельную социальную область с собственной логикой функционирования[53]. Тезис Беньямина игнорирует процесс дифференциации, описанный позднее в работах Толкотта Парсонса, Лумана, Хабермаса и др. Как указывает Больц, одновременно с дифференциацией современного общества (Больц принимает определение Лумана: единство общества состоит из различий между функциональными системами[303]) возрастает стремление к единству и целостности, например, к Богу, поскольку Бог представляет традиционную формулу единства мира[304]. Эта тенденция может выражаться в эзотерических, мистических формулах или в холистической критике общества со стороны. Так как общество отождествляется с Богом, а, следовательно, с чем-то трансцендентным, то создается иллюзия верного описания с помощью «большой картины» извне. Радикальная социальная критика как инкогнито теологии — это известный «теоретический дизайн», пишет Больц, однако подобные попытки по сути —теология[304][303]. Во времена Маркса и Вебера капитализм был одним из таких конструктов[305][306]:
Как полагает Больц, уже концепция Маркса имплицитно зависела от процесса дифференциации (классовая борьба), хотя подход Беньямина был совершенно другим: у него капитализм не умирает своей смертью. Метафора Беньямина о капитализме-паразите сильно напоминала утверждение Вебера о протестантском духе (сила обеих метафор, отмечает Больц, была велика), но ключевой риторический прием Беньямина состоял в постулировании отчаяния и катастрофы как нормального хода вещей, на чём были основаны его мессианские идеи прерывания истории[307]. Приверженность Беньямина религиозной тотальности можно охарактеризовать в терминах Жака Деррида, как мессианство без религии (и без веры, добавляет Больц); в этом Беньямин принадлежит «призракам Маркса»[308][309]. Больц заключает, что холистический подход Беньямина устарел, как и его политико-теологические надежды, которые относились к специфическому философскому контексту[310][311][29]. Комментируя позиции Больца, Вайднер критически замечает, что системная теория Лумана, претендующая на преодоление любых социальных парадоксов, явно находится в «избирательном сродстве» с теологией[50]. С точки зрения лумановской теории, универсализация денег создает их спецификацию (функциональную дифференциацию) в экономической системе, которая не оказывает существенного влияния на религию. Как пишет Соостен, спецификация позволяет акцентировать различие в форме между деньгами и Богом; вполне вероятно, что религиозные символы изменяют видимую форму, содержание и функции. Конфликт между Богом и деньгами (капитализмом), указывает Соостен, смягчается и иссякает — критики денег со стороны религии оказываются без работы, столкновение семиотических кодов прекращается. Поэтому концепция Лумана может быть ответом на идеи фрагмента[312]. Контраргумент подходам Лумана и Хабермаса, который, по мнению Морман, можно использовать для объяснения капитализма как религиозной структуры, представляет анализ Пьера Бурдьё. Согласно Бурдьё, всеохватывающая логика капитала структурирует даже далекие от капитализма области (вкусовые предпочтения, стиль жизни и т. д.)[53]. По мнению немецкого теоретика марксизма Роберта Курца, ключевой вопрос фрагмента предвосхитил один из центральных вопросов Франкфуртской школы, поскольку затрагивал «метафизическое устройство капитала» — его квазирелигиозное постулирование в качестве аналога трансцендентального априори («фетиш капитала»)[313]. Трансцендентальное конституирует социальные отношения, что, по мнению Курца, опровергает узкую интерпретацию Больца: позиции Беньямина не сводятся к критике культа потребления[309]. Критика Беньямином капитализма иногда связывается с концепцией Кейнса, который, по мнению его комментаторов, уловил ключевой религиозный момент в капитализме — жажду обогащения в будущем («духовная болезнь» у Беньямина). Кейнс не придерживался левых взглядов, однако критиковал обожествление денег и отстаивал государственное регулирование экономики как единственный способ очеловечить капитализм и скорректировать «произвольное и несправедливое распределение богатства и доходов»[314]. Перманентность культа в современном капитализме, по мнению немецкого специалиста по экономической социологии Кристофа Дойчмана, выражается несколько иначе, чем считал Беньямин: в отличие от религиозных мифов, капиталистические мифы цикличны и не могут утвердиться навечно, они появляются, институциализируются и затем исчезают[315]. Так как секулярный капитализм стирает традиционное религиозное разделение между трансцендентностью и имманентностью, совершенным и несовершенным, его задача — постоянно устанавливать и преодолевать новые антропологические границы в процессе созидательного разрушения (в терминах Йозефа Шумпетера). В этом смысле капиталистический культ, заключает Дойчман, остается перманентным[315]. Развитие идейТеологическая экономика и профанации: АгамбенТезис о религиозной природе текущей стадии капитализма развивает Джорджо Агамбен[295]. Вслед за Беньямином философ акцентирует внимание на сложной теологической конструкции модерна, которая после смерти Бога парадоксальным образом нашла своё завершение в тотальной экономизации и биополитическом управлении жизнью, «всегда уже» включенной в «теологическую экономику»[316]. Итальянский философ лишь дважды комментировал фрагмент — в книге «Профанации» (2005) и в статье 2013 года, — но его «подрывная» археология «тринитарной ойкономии» западного модерна в книге «Царство и Слава. К теологической генеалогии экономики и управления» (2007) является развернутым и изощренным генеалогическим доказательством тезиса Беньямина[317]. В анализе связи между христианской догматикой и современной экономикой Агамбен выводит христианский догмат о Троице, отличающий христианство от иудаизма, из принципа οἰκονόμος: из античного домашнего хозяйства, управляемого отцом[170]. Таким образом, провокационный вывод Беньямина о капитализме как паразите христианства применяется не только в качестве метафоры для описания экономики свободного рынка, заменившей устаревшее христианство в качестве хозяина для капитализма, но и для анализа происхождения современного экономического порядка[170]. Согласно Агамбену (2013), капитализм окончательно превратился в религию после отмены президентом Никсоном золотого стандарта (1971). Ставшие кредитом деньги эмансипировались от любого основания (золото) и суверена (США) и приобрели абсолютный и самореферентный характер. Вера в кредит и обожествление глобального капитала извращают и пародируют христианство: согласно апостолу Павлу, «вера есть осуществление ожидаемого» (Евр. 11:1)[318][319]. Одна из интерпретаций процесса универсализации вины (нем. Verschuldungsprozess) — его трактовка как «диспозитива» (в терминах Мишеля Фуко)[320][321][272]. В «Профанациях» Агамбен утверждает, что фрагмент иллюстрирует важный диспозитив о современном обществе[212]. Христианство вводит процесс, в котором разграничение между сакральным и профанным становится нечетким, зыбким, неопределенным. Когда Бог превращается в объект жертвоприношения, человеческое измерение практически сливается с божественным. Капитализм генерализирует эту религиозную форму неразделения. Согласно Агамбену[322][321]:
Процесс обособления приводит к «абсолютной профанации»: капиталистическая религия превращает любой объект — товар, язык, сексуальность — в фетиш и предмет культа. В этих условиях невозможен возврат вещей в общее пользование (uso) из области сакрального, то есть возвращение отнятого сакральной властью или просто властью. В свою очередь, невозможность пользования вещами определяет ключевые черты современного капитализма — зрелище и потребление. Типичный пример — музей, заменивший храм как место жертвоприношения. Способом приостановления диспозитива Агамбен считает акт профанации, которую связывает преимущественно с моделью детской игры (все остальные аспекты, например, порнография, уже захвачены диспозитивом капитализма)[323][311][320]. Другие подходыСреди других подходов выделяются идеи Кристофа Дойчмана, который в ряде работ детально развивал тезис о капитализме как религии[267]. Дойчман констатирует отсутствие удовлетворительного определения денег в социальных науках и отвергает функционалистские дефиниции — средство обмена в экономической теории или способ коммуникации в социологии Лумана. Такие подходы не раскрывают суть денег как таковых[50][267][324]. Дойчман сближает идеи Беньямина со взглядами Зиммеля и Маркса, которые не сводили деньги к экономическому измерению[325][326]. В беньяминовской интерпретации капитализм, как проект Фауста, превращает деньги в «абсолютное средство» (Зиммель) и позволяет человеку ставить себя на место Бога. Движущая сила капитализма не просто идея рационализации, как утверждает социология от Вебера до наших дней, а изменение сущности человека с помощью утопии абсолютного богатства, которая лежит в основе идеи денег как капитала[327][328]. Деньги в форме капитала оказываются скрытой религией, их обещание спасения и освобождения от вины через раскрытие человеческих способностей не выполняется. «Неустанное движение капитала» (Маркс) приводит только к бесконечному процессу его возрастания[329]. Дойчман заключает[330][331]:
Сценарий Беньямина полностью реализовался в сферах маркетинга и рекламы, полагает Норберт Больц, поэтому текст сохраняет определённый описательный и диагностический потенциал[311]. Более того, речь идет не столько о критическом диагнозе, сколько об обычном описании рынка[332][29][309]. С точки зрения Больца, возвращение культов и ритуалов, обещающих одновременно и порядок, и волшебство, является лекарством от хаоса, бессмысленности и сложности современного мира. Господство науки и техники под знаком Просвещения породило потребности в волшебных мирах; в отсутствие надежных ориентиров в экономике и политике возросло стремление к простоте и прозрачности, иллюзии «великого целого»[333]. «Культ-маркетинг» (термин Больца), усвоив уроки Маркса и Беньямина, превратил область потребления в арену для стратегий «эстетического заколдовывания»[334][309]. Исчезнувшие боги воплотились в рекламе и маркетинге в качестве идолов рынка — духи называются «вечность» и «небеса», сигареты обещают свободу и приключения, автомобили гарантируют счастье и самопознание. Маркетинг и реклама, выполняя функции религии, создают искусственные потребности и снижают неопределенность с помощью ритуалов. Реклама создает культ, в центре которого находится императив, ритуал потребления, клиент должен не просто покупать и потреблять, а участвовать в ритуальном действе[335]. Наблюдение Беньямина (а до него — Бодлера) было верным: религиозные потребности покинули церковные залы и поселились в современных храмах потребления — посещение магазина «Nike» является не просто шоппингом, а отправлением ритуала. Больц замечает, что в этих обрядах и культах нет монотеистического Бога, слишком абстрактной и сложной концепции; постмодерн есть языческий мир различных брендов (эмблем тотемов) и моды[336]. На концепцию Schuld из фрагмента опирались авторы сборника «Насилие без вины. Этические нарративы глобального Юга» (2008, под редакцией немецкого литературоведа и теоретика культуры Германа Херлингхауза), рассматривая психологическую маргинальность и экономическое угнетение современном капитализме на материале латиноамериканской музыки (в частности, жанра наркокорридо), литературы и кино[337]. Увеличение долга, вины и насилия следует из внеисторической и трансцендентальной природы Schuld, включающей экономические, психологические и юридические аспекты. Поэтому капитализм не может не использовать вину, которая, по мнению Херлингхауза, совмещается с задолженностью и помещается в центр рыночной организации современной жизни[338]. Беньяминовскую трактовку тезиса Вебера использовал австралийский исследователь Мартейн Конингс в своем анализе аффективной, или эмоциональной логики капитализма[339]. Вовлечение Бога в человеческий опыт и тотальное возрастание вины связываются Стефано Микали (2010) с подходами французского социолога Алена Эренберга[фр.], Жиля Делёза и Зигмунта Баумана. Эренберг утверждал, что «культ эффективности» есть условие и предпосылка депрессии. Индивид, чтобы выжить и адаптироваться, вынужден становиться всесильным — бесконечно развивать свои способности в бесчисленном количестве направлений (от освоения игры в гольф до изучения китайского языка), быть гибким и мотивированным, стать секулярной формой всемогущего Бога. В результате человек превращается в депрессированного невротика, поскольку не может примирить социальные запреты, разочарования и неудачи с иллюзией того, что всё возможно. Схожим образом Делёз, описывая переход от дисциплинарных обществ (Фуко) к обществам контроля, отмечал феномены вечного обучения и ощущения долга, а Бауман в анализе «текучей современности» писал о неопределенности, нестабильности и ощущении «оставленных позади»[340]. Согласно Микали, анализ Беньямина описывает ключевые аспекты реальных условий, с которыми сталкивается индивид в постдисциплинарных обществах, в современном капитализме реализуется «предельное усиление» и «дискретное напряжение»[341]. В средствах массовой информацииКак нетривиальная объяснительная модель, концепция «капитализм как религия» находит своё отражение в текущем общественно-политическом дискурсе, в публикациях СМИ по социальным, политическим и экономическим вопросам. В частности, обозреватели анализируют причины и возможные последствия избрания Дональда Трампа на пост президента Соединённых Штатов, указывая, что заявления Трампа находятся в русле «религиозной универсализации вины», направленной на конечную «мобилизацию высших сил»[342][343]. Обозреватель испанской «El País» Висенте Серрано рассматривает Facebook в качестве яркого проявления «капитализма как религии»: социальная сеть представляет собой «виртуальный храм» с более чем 1,5 млрд «прихожан» и зарабатывает деньги благодаря тому, что превращает в товар человеческую эмоциональность, дружбу и привязанности[344]. «Süddeutsche Zeitung», освещая дискуссию экономистов и теологов о взаимосвязи кризиса веры и кризиса капитализма, отмечает, что, несмотря на огромную денежную массу и дешевые кредиты, ставится под сомнение как современная экономика, основанная на модели роста «из ничего», так и представления о невидимой руке рынка, воплощающие идею Провидения. Сомнения, в свою очередь, зачастую исходят из силы веры и надежды на искупление. Вина и долги (нем. Schuld und Schulden) взаимосвязаны; теологи не отрицают идею роста, но рассматривают его в духовном или этическом смысле, напоминая о библейской заповеди: не вменять человеку больше, чем он может нести[К 24][345]. Комментарии
Примечания
Издания
Литература
|
||||||||||||||||||||||||



